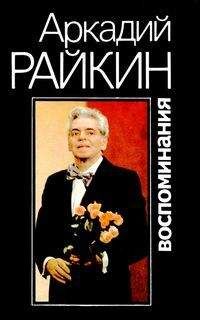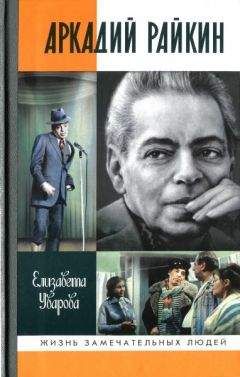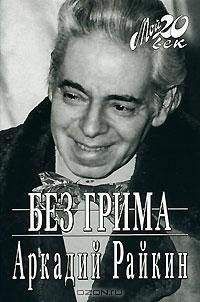Через несколько дней после того как «покатилась» третья четверть, Рощина предложила группе монтажников и полиграфистов написать сочинение: «Мой идеал человека».
Тоня Дашкова с нежностью писала о Горожанкине.
Гриша Поздняев разразился панегириком в адрес Середы: и как он дело свое знает, и какой пунктуальный… Прямо эталон. Но все же Зое Михайловне почему-то приятно было читать об этом.
А вот сочинение Дробота встревожило своей надрывностью, недоговоренностью. «Любить тоже надо уметь, — писал он. — Жалкий человек, кто разменивает настоящее чувство на минутное удовольствие». Сочинение было не очень «на тему», но, вероятно, что-то накипело у парня, просилось на бумагу.
Сразу после возвращения из дома Тоня почувствовала, что с Антоном происходит неладное. Он старался не смотреть ей в глаза, ни слова не сказал об ее письме, а ведь она писала, что очень дорожит их дружбой. В «драмгаме» Антон неожиданно наотрез отказался от роли старшины Баскова:
— Не для меня эта роль!
И как ни уверяла его Розалия Семеновна, что нет же, для него, — твердил упрямо:
— Я знаю — ничего не получится.
В воскресный вечер они задержались в Доме, культуры позднее обычного: там сдавали программу, подготовленную учащимися профтехучилищ для показа в Скандинавских странах. В мае «гастролерам» предстояло побывать в рабочем предместье Копенгагена, на фабрике художественных изделий в Осло, в одном из университетских городков Швеции — Унсала и на фарфоровом заводе в Хельсинки.
Программа получилась на славу. Исполнял «Танец Анитры» Грига квартет юных, как на подбор круглолицых, баянистов; звучали Бах, Паганини, Лист; кружил хоровод девушек в длинных розовых платьях; с гиком и свистом лихо плясали мальчишки. Пели «Калинку» и «Коробейников». Подготовили и шведскую колыбельную, финскую польку… А заканчивали концерт песней «Слава рабочим рукам».
Уже в десятом часу Антон и Толя спустились с высоких ступенек Дома культуры и пошли вдоль берега реки, покрытой льдом.
Посвистывала метелица. Они шли молча, но Тоня знала, точно знала, что вот сейчас начнется какой-то — она даже не могла себе представить, какой, — разговор, объясняющий странное поведение Антона. Не сговариваясь, остановились возле чугунной тумбы причала, занесенного снегом. Антон с трудом поднял глаза:
— Я хочу тебе сказать… — Голос хриплый, прерывистый. Лицо он спрятал в тень. — Хочу сказать… без тебя на каникулах… встречался я с одной… был у нее дома и… и… у нас было все… Это гнусно… Но я должен сказать тебе…
У Тони внутри все оборвалось. Слезы невольно потекли из глаз. Но она справилась с собой.
Антон стоял жалкий, потерянный, чужой. Совсем не тот, кого она знала. Свет от фонаря сейчас падал на его лицо, и оно тоже было чужим.
За что же он так? За что?.. Она ни слова не сказала, медленно пошла в гору. Неужели никому нельзя верить? И есть только пошлость, обман?.. Если бы он полюбил другую и честно признался… Но ведь он сам сказал «гнусно». «Такой он мне не нужен… Совсем… Я себя знаю — не нужен».
Тоня долго стряхивала снег в коридоре общежития, долго поднималась по лестнице, оттягивая минуту, когда должна была войти в комнату. К счастью, Дины еще не было, не возвратилась с Леней из театра. Галка посмотрела на подругу испуганно — та была бледной, поникшей.
— Нездоровится мне… — сказала она медленно, через силу разделась и легла в постель.
— Может быть, лекарство? Скорую помощь?
— Нет, продрогла я… Засну…
Тоня с головой укрылась одеялом, свернулась калачиком. Долго лежала так. Только когда услышала, что Галя посапывает, дала волю слезам. Ее трясло, она старалась унять дрожь и не могла. «Что же он наделал! Что наделал!..»
Странную вещь заметил Егор, когда возвратился домой от Гриши, где прекрасно провел время. В рассказах матери все чаще стал появляться какой-то Матвей Федорович, завгар, — добрый, славный, по ее отзывам, человек. У него, оказывается, была неизлечимо больная жена, «просто приговоренная к смерти».
Маргарита Сергеевна очень сочувствовала Матвею Федоровичу: «Так, бедный, мается, так переживает».
Сначала — когда приезжал на своей машине, как леший, обросший волосами, здоровенный мужик и, войдя, стыдливо ставил на стол бутылку сухого вина, клал коробку конфет, — мать конфузилась, смотрела на сына виновато, словно бы говоря: «Ну что мне с ним делать? Не выгонять же из дома хорошего человека?»
Но скоро, еще до прихода «несчастного» Матвея Федоровича, мать притворно-озабоченно советовала:
— Ты бы, Георгий, прошелся по свежему воздуху… Или в кино сходил… На тебе деньги… Ну что бирюком сидеть? Иди, иди, — и выпроваживала его.
Вот тогда у Егора возникла зыбкая надежда: а вдруг удастся ему возвратиться в училище? Мать обойдется без него. Теперь вполне обойдется.
Он повеселел, приободрился, написал письмо Зое Михайловне, где осторожно намекнул, что ситуация в доме изменилась, и кто знает…
Коробов дома продумывал свое завтрашнее выступление на пленуме обкома партии. Там речь пойдет об улучшении работы профтехучилищ.
О чем скажет он? О том, что проблему подготовки молодых рабочих надо решать в союзе со средней школой — в таком единении сил таятся огромные скрытые резервы. О важнейшей задаче — нравственном воспитании учащихся.
Он не верил в мгновенные, святочные метаморфозы. И если в хлыевых намечался заметный перелом, даже не перелом, а поворот к лучшему, то как же закрепить, развить успех, добиться нравственной акселерации?
Это хорошо, что Павел Павлович Карпенко стал проявлять повышенный интерес к их общему делу, но и здесь не должно быть временности. Все следует, опять-таки вместе, продумать глубоко и намного вперед.
Проблемы, проблемы… Они обступают со всех сторон. Ждут решения… Впрочем, какое значительное дело обходится без трудных подъемов? Надо искать возможности повышения КПД нашей системы.
Вот этими мыслями он поделится на пленуме…
В училище тишина. Идут занятия.
То на одной, то на другой доске чертит профили проката Середа, показывает образцы печатных наборов Горожанкин, читает поэму Твардовского Рощина.
Всяк думает по-своему: подперев кулаком щеку — Гриша, скрестив руки на груди — Антон, покусывая прядку волос — Тоня, напряженно морща лоб — Хлыев.
Тишина. Идут занятия.
Повесть Глава первая
Сереже Лепихину было шесть лет, когда отец и мать разошлись.
Они с матерью поселились у бабушки, в ее стареньком деревянном доме возле спуска к Дону.
Казалось, Сережа не придал особого значения переменам в своей жизни: гонял с соседскими мальчишками голубей, раза два удирал от бабушки на рыбалку, до седьмого пота играл в футбол.
Отца вспоминал редко, если же иногда и спрашивал о нем, мать ничего плохого не говорила: мол, поссорились, вот и живем порознь.
— Но я же с ним не ссорился, — резонно возразил он как-то, а потом долго не возвращался к этой теме.
Однако года через три, тяжело заболев, Сережа стал вдруг просить:
— Позови папу… Я хочу его видеть… Позови…
Раиса Ивановна позвонила в Энергосбыт, где работал инженером ее бывший муж, Станислав Илларионович.
До этого он ни разу не пытался увидеться с сыном, даже материально не помогал, зная, что Раиса неплохо зарабатывает. Да она и не приняла бы от него помощи.
Станислав Илларионович, как и прежде, не по летам раздобревший, приехал к сыну в великолепно сшитом костюме, привез кулек шоколадных конфет.
После этого краткого визита мальчик долго еще надеялся на приход отца. Но, услышав сетование бабушки, что вот пропал человек, как в воду канул, сказал, будто сдирая корку с поджившей раны:
— Не хочу слышать про него!
Это он только сказал так, а на самом деле, конечно, хотел бы и услышать и увидеть…
Пролетело еще два года. Сереже шел двенадцатый год, он превратился в неуклюжего мослаковатого юнца, болезненно самолюбивого, застенчивого — в одного из тех, кто не знает, куда спрятать свои руки, глаза, ограждается грубостью, чтобы не покусились на его независимость.
Он был высок, узкогруд, ходил, ставя носки несколько внутрь, как отец… Светлые волосы непокорным мысиком нависали над выпуклым лбом, из-под которого испытующе поглядывали на мир серые глаза.
Удлиненное лицо Сережи, с бороздкой правдолюба на подбородке, было бы, в общем-то, довольно энергичным, если бы не длинные пушистые ресницы, которые придавали его облику что-то девчоночье.
Мать с радостью отмечала, что в характере сына было много стыдливой ласковости, душевной щедрости, совершенно не свойственной его отцу, и это успокаивало ее.
Но она даже не догадывалась, как часто продолжал мальчик думать об отце. То вдруг вспоминал, как сидел на плечах у него, а отец шел в море; то мысленно зло говорил: «Что ж ты за человек! Бросил меня, как собаку…» Он становился угрюмым, вспыльчивым, и бабушка удивлялась этим резким переменам в настроении.