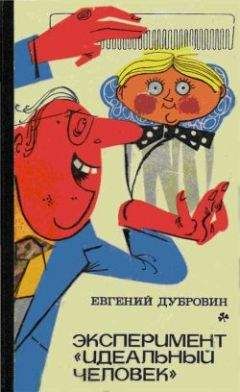– Чемодан у вас в дырочках.
– Ах да… Вы очень наблюдательны… Я везу яблоки.
– Яблоки в Курск?
– Конечно… Но вообще-то вы правы. Яблоки в Курск – это смешно. Я хотел над вами пошутить. Я везу поросенка.
– Поросенка?
– Ну да. Молочного живого поросенка. Тетя очень любит молочных поросят. Вот поэтому и дырочки.
– Логично.
– Конечно, логично. – Полушеф с шумом выдохнул воздух. К нему возвратилась обычная самоуверенность.
– А чего ж он не визжит?
– Зачем ему визжать? Спит. Наелся, напился. Я его молоком из пакета напоил. Ну ладно. Я пошел, а то поезд скоро.
– Счастливого пути.
– Спасибо.
Ученые пожали друг другу руки.
– Значит, все идет нормально?
– На высшем уровне.
– Я рад.
– Я тоже.
– До скорой.
Курдюков и Геннадий Онуфриевич опять пожали руки.
– Растет сорванец? – Федор Иванович кивнул в сторону кровати с Шуриком-Смитом.
– А что ему остается делать?
– Не заговорил?
– Рано еще.
– Но хоть гукает?
– Гукает.
– На каком языке?
– Пока еще неясно.
– Ну ладно, мне пора.
– Всего доброго.
– До скорой.
– До скорой.
Ученые в последний раз обменялись рукопожатием. Полушеф поднял чемодан и потащил его к двери. Чемодан зацепился за кресло. Курдюков дернул. Старый фанерный чемодан не выдержал рывка и развалился. На пол выпали какие-то тряпки, бутылочки, веревки, клочья ваты…
Федор Иванович поднялся с пола и с вызовом уставился на Геннадия Онуфриевича. Скрываться теперь не было смысла. У ног валялся самый настоящий контейнер для похищения Шурика-Смита.
– Отдай добровольно, – сказал Курдюков угрожающе.
Геннадий Онуфриевич потянулся к рейсшине. Федор Иванович не стал дожидаться окончания этого движения и, схватив в охапку чемодан, бросился наутек.
– Пожалеешь! – донесся до бедного отца его голос. – Сильно пожалеешь!
Геннадий Онуфриевич собрал остатки ваты и тряпье (это оказались самодельные пеленки) и выбросил все в форточку. Затем он открыл платяной шкаф и сказал:
– Сенечка, выходи.
Послышалась возня, какой-то шепот.
– Эй, ты не заснул там?
– Иду, Геннадий Онуфриевич… Сейчас…
Из шкафа вылез взъерошенный Сенечка, смущенно кашлянул.
– Придремнул я немного…
– Слышал?
– Кое-что слышал.
– Смита, гад, хотел украсть.
– Негодяй…
– С чемоданом пришел. Я по дырочкам сразу догадался. Знаешь, какие в посылках для яблок делают.
– Знаю…
– Надо замок другой поставить.
– Теперь нет смысла, Геннадий Онуфриевич, Курдюков не такой человек, чтобы повторяться. Он что-нибудь другое придумает. Надо готовиться к неожиданностям.
– Ты меня только, Сеня, не бросай одного.
– Будьте спокойны, Геннадий Онуфриевич. Верен вам буду до гроба.
Но верен Сенечка оказался только до июля. Во вторник, 18 июля, Геннадий Онуфриевич нашел у себя на столе толстый пакет. С утра на столе никакого пакета не было. Красин с удивлением взял конверт и прочитал:
Г. О. КРАСИНУЛично в руки
Уже заранее зная, что письмо обещает какую-то неприятность, ученый с нетерпением вскрыл конверт и достал два листка бумаги. На одном торопливо и неразборчиво было написано:
«Уважаемый Геннадий Онуфриевич!
Прости меня, если сможешь. Человек слаб, и я не исключение. Не у всех столько упорства и мужества, как у тебя. Я просто не пригоден к тому титаническому труду, который ты затеял.
Сейчас я счастлив… Ты должен понять меня. Ты же ведь тоже счастлив по-своему, затеяв этот небывалый грандиозный эксперимент.
За Веру не беспокойся. Клянусь тебе, что я и ее постараюсь сделать счастливой.
Да здравствует счастье!
Не ищи нас. Это бесполезно. Да ты и не будешь тратить на это время, ты слишком занят.
Ну, ну, не хмурься, давай лапу. Все будет о'кэй,
Сеня».
Второе письмо было написано каллиграфическим почерком. Красин сразу узнал руку дочери.
«Дорогой папа!
Если бы ты знал, как все прекрасно! Как я рада! Завтра мы с Сеней будем далеко-далеко. Мы увидим Байкал, Амур, Сахалин, Камчатку… Ты не представляешь, как мне надоел наш дом, вечные разговоры о науке, науке, науке… Как я понимаю маму! Она, молодая, красивая, вынуждена была сидеть дома, отказаться от всего, что так привлекает женщину: развлечения, наряды, просто внимание…
Может быть, это звучит кощунственно, но я была так рада, когда мама нашла в себе силы бросить нашу тусклую, ползущую, как склизкая улитка, жизнь…
Даже сейчас, когда мамы уже столько времени нет с нами, ты почти не вспоминаешь о ней. По-моему, ты даже радуешься – больше никто не мешает тебе плачем и упреками проводить эксперимент.
Я знаю – ты сумеешь перенести и мое отсутствие. Скорее всего ты забудешь обо мне через несколько дней. Ну что ж, я не обижаюсь на тебя. Ты нашел себе дело, нашел свое призвание. Постараюсь и я найти себе то же самое. Если не сумею – что ж, пусть меня постигнет извечная «бабья доля» – растить и любить детей. (Разумеется, без всяких экспериментов!)
Ты даже ни разу не поинтересовался, куда я пойду после десятилетки. Обычно отцов очень волнует этот вопрос. Так вот. Пока никуда. Поезжу с Сеней по стране, присмотрю что-нибудь для души.
Поцелуй за меня Шурика (хотя забыла – это может нарушить чистоту опыта!).
Не сердись на Сеню. Он просто человек. Как все. Со слабостями. И поэтому я полюбила его.
Обнимаю, люблю, преклоняюсь перед тобой, молю о снисхождении.
Вера».
Геннадий Онуфриевич аккуратно сложил письма в конверт, вышел в гостиную и постоял посередине комнаты несколько минут, не шевелясь.
– Случилось что-нибудь, сынок? – тревожно спросила Варвара Игнатьевна.
– Вот, – Красин молча протянул письма.
– Онуфрий! – закричала Варвара Игнатьевна. – Онуфрий! Неси свои очки!
На кухне упала и покатилась заготовка под дугу. Прибежал испуганный Онуфрий Степанович.
– Что? Где?
– Очки, говорю, неси!
Пока старики читали содержание толстого конверта, ученый подошел к окну и барабанил пальцами по стеклу, глядя во двор.
Первой поняла суть письма Варвара Игнатьевна.
– Сбежала! – закричала она. – С мужиком сбежала, молокососка! По стопам матери пошла! Яблоко от яблони недалеко падает!
Онуфрий Степанович не понимал до последнего.
– Кто сбежал? С кем?
– Верка с Сенькой этим сбежала! Ох, господи! Чуяло мое сердце, что они снюхаются. Все крутился вокруг нее, звенел бубенчиками. В милицию надо звонить! Онуфрий! Чего стоишь? Звони в милицию! Ох, господи, раньше за такие дела девкам ворота дегтем мазали, а сейчас и ворот-то никаких нет. Вот и узды на них не стало. Онуфрий! Чего рот раззявил? Звони!
Онуфрий Степанович кинулся к телефону.
– 01?
– Какой 01? Ты, что, совсем очумел, старый? 01 – это пожар. 02 звони! В милицию!
– Брось, мама! – сказал Геннадий Онуфриевич. – Зря все это. Совершеннолетняя она. Милиция тут не поможет…
– Да что же это творится на белом свете! – зарыдала Варвара Игнатьевна. – Жена бросила, дочка сбежала. Бедненький ты мой мальчик!
Варвара Игнатьевна подбежала к сыну, обхватила его за шею.
– Родненький ты мой! За какие грехи на тебя столько напастей? Чем ты провинился? Умный, ладный из себя, не пьешь, не куришь… Господи! Что же это за бабы теперь такие пошли? Чего им такого надо? Бегают все, подняли хвост трубой. От безделья они бегают! Вот что! С жиру бесятся! Романтику да норковые шубы им подавай. «Мансипация» – в газетах пишут и по телевизору галдят. Вот и домансипировались на свою голову. Кругом одни разводы. В старину баб в руках держали, так оно лучше было. Чуть что – вожжами, вожжами! Не дури, не балуй! И семья крепкой была, и детей куча. А сейчас? Детей уж не хочут рожать – вот до чего докатились! Да еще жалеют их в газетах, бедняжек. Наработается, мол, да домой полную сумку несет, страдалица. А я скажу – натреплется на работе, прибежит, чай да бутерброды сделает – считай, семью накормила. Щи варить разучились! Дожили! В старину с утра до ночи баба в поле, а потом до рассвета по хозяйству. Вот как было. И какие крепкие девки росли! Кровь с молоком! А сейчас? Обтянет штанами, прости господи, две палки вместо зада, конский волос на голову накрутит, папиросу в зубы воткнет, и ищи-свищи ее до утра. Верно я говорю, Онуфрий?
– Верно, верно, – закивал седой головой муж.
– Помнишь, когда за мной бегал, какая я была? Все у меня в руках горело. А миловались как мы с тобой – всю ночь ходили по росе… А сейчас… Задрала юбку… – Варвара Игнатьевна села на диван и заплакала, положив натруженные большие руки на колени и дергаясь желтым сморщенным лицом.
– Прибегут еще, мерзавки… прибегут… Да на порог не пущу, пока жива…
– Ладно, мать, – Геннадий Онуфриевич шевельнул плечами, словно стряхивал с себя что-то. – Мне Смита кормить пора. Налей молока в бутылку…