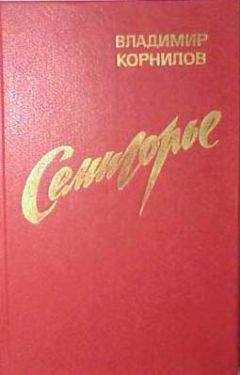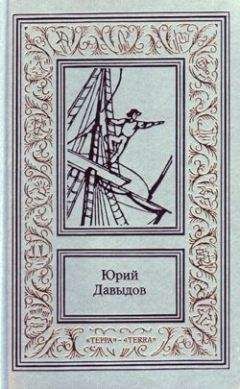— Лес отпускал! — сообщил сразу всем. — Для школы. День среди сосен туркался, на таком-то ветру! Мужичонки недогадливы попались. «Погреться, говорю, пора». А они: «Сей же час, милчеловек, костерок запалим…» Слышь, Гаврила Федотович, костерок запалим! У меня, можно сказать, мозг костей холодом прихватило. А они — костерок!..
Васёнка видела, как батя мигнул Капитолине. Капка и без того не стояла на месте, а как поймала батин знак, вмиг исчезла за печью. Слышно было, как выхватила с горки миску, в торопливости рассыпала ложки, откинула тяжёлую крышку подпола.
Батя сгрёб железки в ящик, освободил стол. Он, как многие на селе, заискивал перед молодым лесником, хотя свою от него зависимость скрывал ворчливым шутейством.
В хозяйстве, где корова, бычок, овцы, не на каждый год вдоволь накашивали сена. На долгую зиму нужен запас хороших дров, жерди на огород, новый стояк на дворину, дрань на крышу — всё из леса. Да что говорить, даже уголь для колхозной кузни жгли из берёз, что отпускал лесник! И не один Гаврила Федотович, каждый мужик понимал, какая доля в постоянной хозяйственной нужде покрывается добрым расположением лесника.
Васёнка знала нужды дома, всё понимала и не осуждала батю ни за поклоны, ни за богатые угощенья. Она даже с покорностью сносила сватовство Леонида Ивановича, пока шутливое, но с каждым гостеваньем всё более назойливое. Она не хотела худого своему дому и терпеливо ожидала, что лесник поиграет в женихи и отступится.
Привычная суета, которая с приходом Красношеина началась в доме, душевно её не затронула. Васёнка наперёд знала, что Капка выставит сейчас на стол четвёртную бутыль, соленья, холодное мясо и даже мёд — всё, чем каждый раз она щедро потчевала лесника и накрепко прятала от Зойки с Витькой. Сама Васёнка, и Зойка, и Витька с этим смирились и старались на замечать всегда обидной для них суеты с угощеньем. Но сегодня в доме у них была добрая её сердцу Авдотья Ильинична, и Васёнка страшилась, как бы косые взгляды бати и Капки, накрывающей на стол, не обидели бабу Дуню, не заставили её уйти. И когда батя сгрёб со стола свои железки и, задержав на столе ладонь, строго глянул из-под нависших рыжеватых бровей и коротко бросил: «Васёнка, самовар!», она, привычно вскочив, обернулась к всё понимающей Авдотье Ильиничне и громко, с вызовом, сказала:
— И не думайте уходить, баба Дуня! С нами отужинаете.
И тут же, как будто испугавшись, дерзких своих слов, жалко улыбнулась, попросила:
— Не уходите, баба Дуня! Побудьте…
От печи уже шумела Капитолина.
— Зойка! На погреб за капустой… А ты, книжник, — нацелилась она взглядом на Витьку, — быстро за водой!
Ужинали невесело. Батя с лесником выпили по кружке Капкиного припаса, глотнула, морщась, сама Капитолина, пригубила стопку баба Дуня. Васёнка не притронулась. Она, опершись локтями на стол, уложила подбородок на ладони и с чувством затаённой враждебности наблюдала, как лесник, не спеша, руками разрывая куски, ел мясо.
Вытерев осаленные пальцы о стол, он ногтем мизинца прочистил зуб, поймал Васёнкин взгляд, подмигнул. Васёнка отвернулась.
Батя пока молчал. Склонив над столом голову, он с какой-то угрюмостью медленно жевал, но по тому, как взглядывал он на бабу Дуню, Васёнка чувствовала, что в бате зреет недобрый к ней разговор.
Она не ошиблась. Замочив усы уже во второй кружке, отяжелев головой и языком, батя вдруг поднял голову и взглядом будто вцепился в спокойно сидевшую рядом с Васёнкой Грибаниху.
— Авдотья! Тебя спросить хочу… Пётр, твой мужик, голову за власть сложил. Вот ты скажи: для тебя, как ты вот есть, что важней: чтоб рядом твой мужик был, землю пахал-сеял, тебя кормил-грел, дом ладил? Или наибольше тешит тебя та общая жизни перемена, что с нынешней властью пришла?..
— Вот это вопрос! — хохотнул Красношеин. — Почешешься, пню не быть деревом!..
— Ответь, Авдотья! Скажи как на духу!..
Грибаниха приоткрыла рот, как будто задохнулась от услышанных слов, метнула взгляд мимо бати, на ослеплённое теменью окно. Наверное, одна Васёнка видела, как тень неизжитой тоски прошла по её глазам. Тут же взгляд её прояснел, сомкнулись в спокойствии губы, она протянула руку к поставленной перед ней стопке, взяла её.
— Давай-ка, Гаврила, за твоих детей! — сказала она тихо.
— Не-ет, Авдотья, глаз своих ясных за рюмку не прячь! Ты за правду стоишь. По домам ходишь, людям душу бередишь! Вот и скажи… Скажи: нужно человеку своё? Что вот так, рядом, — батя рукой охватил, придавил к себе Капку, — что сердце твоё греет? Нужно своё?!
— Что за слова говоришь, Гаврила! — Грибаниха, не пригубив, поставила стопку на стол… — Нужно. И детям своя мать нужна!..
Батя сморщился, будто схватил ртом горчицы, потряс лохматой головой.
— Жгёшь, Авдотья, меня жгёшь. А волдыри на твоей коже пухнут! В чужую жизнь не лезь, свою гляди. Что твоя жизнь? Обёртка от конфетки! Поманила, а конфетку другой ссосал! Петра из земли не подымешь. Пацана… Как его? Имя-то не православное… Кима! — тьфу ты, придумали такое — тоже, считай, в поминальник записала. Увёл твоего сердечного Сенька, извиняюсь, товарищ Степанов! Для меня всё одно — Сенька, будь он хоть ещё на пять стульев выше! Вместе овсяной кисель хлебали, в одних норах раков шарили, бок о бок землю ковыряли, одной ночью укрывались. Слышь, Авдотья, одной ночью укрывались, когда коней пасли! Будь он хоть в области, хоть в Москве — для меня всё одно — Сенька…
— Вот даёт! — сказал лесник. — Промоем мысль, Гаврила Федотович! — он подхватил со стола тяжёлую бутыль.
Васёнка, и без того обеспокоенная недобрым разговором, с тревогой следила, как Леонид Иванович с блестевшими от возбуждения глазами лил из бутылки в кружку бате, заодно и себе. Она следила за хлопотами лесника, но остановить, сказать, нужное слово не смела. Батя сам не принял кружки. Он даже как-то в сердцах отвёл руку лесника.
— Погоди, — сказал он. — Я с Авдотьей говорить хочу… Увёл Сенька от тебя пацана? Увёл. Как бычка проданного. Небось и деньгами не суживает? Своим горбом рубль добываешь. И живёшь в чём? В хоромах — дверью хлопни, угол завалится… Где ж твоя светлая жизнь, Авдотья? На общую ты мне не кажи. Я про твою, про личную твою жизнь! Где она, светлая твоя жизнь, за которую твой Пётр «ура» кричал? И ты, сестра милосердная, — люди небось не врут — рядом с ним у Байкал-озера кровь пролила. Свет завоевала, а своё-то счастье в кулак уместила, да и оно, как вода, меж пальцев ушло. Воротилась ты к пуповине своей, к землице семигорской. А с чем воротилась? С пустом. С пустом, Авдотья! Кто у тебя теперь? Кто греет твои посохшие бока? Людям головы замудряешь, души бередишь. А у самой ни света, ни доброго куска, ни тёплого угла!.. Чего глядишь? Ты мне молчком душу скребла. Теперь я тебе твоё выложил. Зри!..
Васёнка, бледная от переживаний, крикнула голосом, дрожащим от обиды:
— Батя, как вы можете?!
— Не встревай, Васёна! — осердился Гаврила Федотович. — У нас с Авдотьей свои, невидные тебе, счёты… — Он сидел, грудью и локтями навалившись на стол, притихнув, ждал, что ответит Авдотья.
А Грибаниха, как будто все батины раскалённые слова прошли мимо, её не поранив, молчала и глядела на батю каким-то далёким и жалеющим взглядом. И батя, хотя и держал себя за столом хозяином, не имел сил — Васёнка это видела — выдержать её взгляд.
Баба Дуня вздохнула, и все услышали этот её трудный вздох, но никому она не дала успеть выразить ей сочувствие и как-то совсем спокойно попросила сидевшую у самовара Васёнку:
— Налей-ка мне чайку, Васёнушко. Заварки не пожалей, покруче…
Двумя руками она бережно приняла блюдце с чашкой, до краёв полной, не расплеснув, поставила перед собой. Отхлебнула глоток, посмотрела на батю, сказала даже вроде бы задумчиво:
— Гаврилушко, ты ведь не на меня, на себя злой!
— Это как понимать? — Батя откинулся от стола, затылком упёрся в стену.
— А вот так и понимай. Я одна живу, да миром богата. У тебя дом полон людей, а ты — один. Среди людей, а — один, Гаврилушко. Потому и зол…
Грибаниха, откусывая от маленького кусочка сахара, с блюдца, не торопясь, выпила чаи, опрокинула пустую чашку вверх донышком, не глядя на растерянно молчавшего Гаврилу Федотовича, вышла из-за стола. Убирая седые волосы под платок, сказала Васёнке, будто в доме они были одни:
— Приходи, Васёнушко, ко мне. Девки-то на праздник в моей избе беседу собирают! — Укладывая на голову поверх платка шаль, одной ей шепнула: — Всё брось, а приходи. Радость тебе готовлю…
Лесник Красношеин вышел из-за стола, встал, покачиваясь, рядом с Васёнкой.
— Как же это вы, Авдотья Ильинична! Её зовёте, а до меня ваша доброта не доходит? Или я для гуляния негож?..
Он покачивался с носков на пятки, заложив руки в карманы штанов, смотрел на уже укутанную в шаль Грибаниху хмельными улыбающимися глазами. Васёнка опустила голову, не смея шепнуть бабе Дуне своё слово.