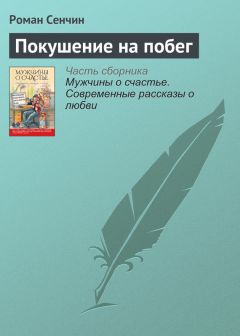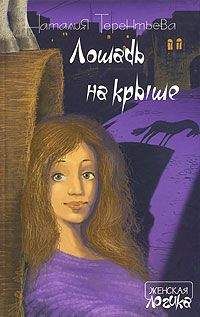Но вот уж он иноходит от кухни… Ширк-ширк, ширк-ширк – обогнул столик, другой, поднос на левой руке как щит, а на щите – всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про калужское кладбище? Помнишь, мол, как там тихо-тихо было?.. Нет, пожалеет он меня, наверняка, пожалеет в душе.
– У вас что было?
– Котлета.
– Котлета… Пожалуйста.
– По-калужски?
– Что?
– Котлета-то по-калужски?
– Почему по-калужски? Нормальная котлета.
– Я думал, по-калужски.
– Где вы видите – по-калужски?
– Да нигде не вижу… Я вот смотрю на нее, думал, она – по-калужски.
– Нет у нас никаких по-калужски!
– Ну, нет – и не надо. Я же не прошу. Я говорю: я думал, она по-калужски.
– Будете кушать?
– А как же!
– Водка… А что собой представляет по-калужски?
– Такие… на гробики похожи… Купеческие котлеты.
Он быстро, подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что мне поставил, – испугался: не развезет ли меня, если я это оглоушу, в графинчике-то? Их за это ругают, я слышал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь, сказал как можно приветливее:
– Спасибо.
– Пожалуйста.
Официант отбыл к соседнему столику.
Нет, не буду я ему ничего говорить про Калугу. А три рубля лишних дам потом. Как можно небрежней дам, и никакого презрения – дам, и все. Как будто я каждый раз вот так по трояку отваливаю – такой я странный, щедрый человек, хоть и с солдатским лицом и неважно одет. Меня прямо нетерпение охватило – скорей дать ему три рубля. Посмотреть: какое у него сделается лицо!
…Я поел, выпил. Он мне кратким движением – сверху вниз – счет. Я заплатил по счету, встал и пошел. Трояк не дал. Ни копейки не дал. Не знаю, что-то вдруг разозлился и не дал. А чтоб самому про себя не думать, что я жадный, я отдал эти три рубля гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы, а подошел и просто дал. Он меня спросил:
– Побрызгать?
– Не надо, – сказал я. – Брызгать еще…
«Вот так вот, – думал я сердито про официанта, – гроша ломаного не дам. И так проживешь. Вон какой ловкий!.. Научился».
Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц… Макушка лета. Где-то робко ударили в колокол… И звук его – медленный, чистый – поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.
…Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так – тепло и покойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все – как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей… Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин… Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции – вот уж странно-то!
…Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:
– Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.
Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.
– Моя могилка-то, – сказала она еще.
Я вскочил со скамеечки… Смутился чего-то.
– Извините…
– Да что же?.. Садись. – Она села на скамеечку и показала рядом с собой. – Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.
Я сел.
– Сынок у меня тут, – сказала она, глядя на ухоженную могилку. – Сынок… Спит. – Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито… Видно, горе ее – давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.
– А ты чего? – спросила старушка, повернувшись ко мне. – Тоже есть тут кто-нибудь?
– Нет… я так. Зашел просто… Зашел отдохнуть.
Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.
– Тут рази отдыхают…
– А что? – Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать. – Тут-то и отдохнуть. Подумать.
– Оно так, – согласилась старушка. – Только дума-то тут… вишь какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему. – Она повернулась опять к могилке. – Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут – мне бы и спокойней было. Куда лучше! Только… не нам это решать дадено, вот беда.
– Давно схоронили?
– Давно. Семь лет уж.
– Болел?
Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой – вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время – покачивает головой.
– Двадцать четыре годочка всего и пожил, – сказала старушка покорно. Еще помолчала. – Только жить начинать, а он вот… завалился туда… А тут как хошь, так и живи. – Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне. – Неладно живете, молодые, ох неладно, – сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами. – Вот расскажу тебе одну историю, а ты уж как знаешь: хошь верь, хошь не верь. А все – послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торописся?
– Нет.
– Вот тут у нас, на Мочишшах… Ты здешный ли?
– Нет.
– А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут – Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там теперь не хоронют. Раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту… А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу – женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай: может, мне кажется? Тот послушал – плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина, надо узнать, в чем дело – чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронют, подозрительно, мол… Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружию, на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих… А темень, глаз коли. Он спрашивает: есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подходит женщина… Он ее, солдат-то, фонариком было осветил – хотел разглядеть получше. А она говорит: убери фонарик-то, убери. И оружию, говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел… «Ты плакала-то?» – «Я плакала». – «А чего ты плачешь?» – «А об вас, – говорит, – плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала». – «Да я же комсомолец! – Это солдатик-то ей. – Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, – говорит, – не верю тебе». А она вот так вот прикоснулась к ему, – и старушка легонько коснулась ладошкой моей спины, – и говорит: «Пове-ерите». И – пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело – кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!.. – Старушка сказала последние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно: – Как же не обсмеют! Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то – на свет-то, – на гимнастерке-то образ божьей матери. Вот такой вот. – Старушка показала свою ладонь, ладошку. – Да такой ясный, такой ясный!..
Так это было неожиданно – с образом-то, – и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел – нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил, охота было, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой – наш, сегодняшний:
– А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой: меняет их без конца. Я говорю: да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй. Шило на мыло менять? Сошелся тут с одной, ребеночка нажили… Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах ты, господи-то! Беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная, лаборанка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне оттудова: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать. – Ну, я и разлысила лоб-то – поехала. Приехала, погостила… Дура старая, так мне и надо – поперлась!