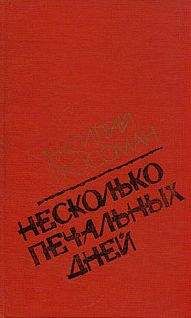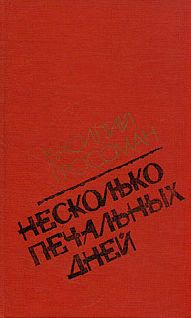Сложный мир со своими законами, обычаями, радостями и печалями.
Вавилова ничего не знала о нем. И Бэйла снисходительно, как старшая сестра, ввела ее в этот мир.
— Не путайтесь под ногами, — закричала она детям, — марш на двор!
И когда в комнате остались только они вдвоем, Бэйла, понизив голос до таинственного шепота, заговорила с ней о родах. О, это не простая вещь! Бэйла, как старый солдат, рассказывала молодому новобранцу о великих муках и радостях родов.
— Рожать детей, — сказала она, — вы думаете, что это просто, как война: пиф-паф и готово. Ну нет, извините, это не так просто.
Вавилова слушала ее. Впервые за все время ее беременности ей встретился человек, который говорил об этой тяжелой случайной неприятности, постигшей ее, как о счастливом событии, которое будто бы было самым важным и нужным в жизни Вавиловой.
А вечером вместе с Тутером продолжалось обсуждение. Нельзя было терять времени: после ужина Тутер полез на чердак и с грохотом сволок вниз железную люльку и ванночку для купания нового человека.
Можете быть спокойны, товарищ комиссар, — блестя глазами и смеясь, сказал он, — вы у нас принимаете дело на полном ходу.
— Молчи, молчи, босяк, — промолвила жена, — недаром тебя люди зовут татарином.
Ночью Вавилова лежала в постели. Душные запахи уже не давили ее, как накануне. Она привыкла к ним, даже не чувствовала их. Ни о чем не хотелось думать.
Ей казалось, что ржут где-то лошади, и в глазах мелькал длинный ряд рыжих лошадиных голов, у каждой было белое пятно на лбу. Головы беспрерывно шевелились, кивали, фыркали, скалили зубы. Она подумала о батальоне, вспомнила Кирпичева — политрука второй роты. Затишье на фронте. Кто проведет беседы о июльских днях? Завхоза надо взгреть за то, что задержал доставку сапог. И потом можно резать самим сукно на обмотки. Во второй роте много недовольных, особенно этот кудрявый, который поет донские песни. Вавилова зевнула и закрыла глаза. Батальон ушел куда-то далеко-далеко, в розовый коридор рассвета меж мокрых стогов сена. И мысли о нем были какие-то ненастоящие.
Оно нетерпеливо толкнуло копытцами. Вавилова открыла глаза и приподнялась на постели.
— Девочка или мальчик? — вслух спросила она. И вдруг почувствовала, как сердце в груди стало большим, теплым, гулко забилось. — Девочка или мальчик?
Роды начались днем.
— Ой! — рыхло, по-бабьи, вскрикнула Вавилова, почувствовав, как острая, всепроникающая боль вдруг охватила ее.
Бэйла повела ее к постели. Сема весело побежал за акушеркой.
Вавилова держала Бэйлу за руку и тихо, быстро говорила:
— Началось, Бэйла, а я считала, что позже дней на десять. Началось, Бэйла.
Потом боли прошли, и Вавилова решила, что напрасно посылали за акушеркой.
Но через полчаса боли снова начались. Лицо Вавиловой стало бледным, и загар на нем лежал как-то особенно мертво. Вавилова стиснула зубы, выражение лица у нее было такое, точно она думала о чем-то мучительном и стыдном, и вот-вот быстро подымется, закричит: «Что я наделала, что я наделала!» — и закроет в отчаянии лицо руками.
Дети заглядывали в комнату, слепая бабушка грела на плите большую кастрюлю воды. Бэйла поглядывала на дверь: выражение тоски в лице Вавиловой пугало ее. Наконец пришла акушерка. Ее звали Розалия Самойловна. Она была стриженая, коренастая, краснолицая.
И сразу весь дом наполнился ее сварливым, пронзительным голосом. Она кричала на Бэйлу, на детей, на старуху бабушку. Все забегали вокруг нее. В кухне загудел примус. Из комнаты начали вытаскивать стол, стулья, Бэйла быстро, точно туша пожар, мыла пол, сама Розалия Самойловна выгоняла мух полотенцем. Вавилова глядела на нее, и ей казалось, что это приехал в штаб командарм. Он тоже был коренастый, краснолицый, сварливый, и приезжал он тогда, когда на фронте бывал прорыв, все, читая сводки, переглядывались, шептались, точно в штабе лежал покойник или тяжелобольной. И командарм грубо рвал эту сеть таинственности и тишины: криком, руганью, приказами, смехом, точно ему не было дела до оторванных обозов и окруженных полков.
Она подчинялась властному голосу Розалии Самойловны, отвечала на ее вопросы, поворачивалась, делала все, что она ей велела. Порой мутилось сознание, ей казалось, что стены, потолок теряют определенность поверхностей и линии, волнами лезут на нее. Она снова приходила громкого голоса акушерки и видела ее красное, потное лицо, белые хвостики косынки вокруг шеи. Она ни о чем не думала в эти минуты. Хотелось выть диким, волчьим голосом, кусать подушку. Казалось, что кости хрустели и ломались, и клейкий, тошный пот выступал на лбу. Но она не кричала, а лишь скрипела зубами и, судорожно поводя головой, заглатывала воздух.
Временами боль проходила, точно ее совершенно не было, и она, изумляясь, смотрела вокруг себя, слушала шум базара, удивлялась стакану на табурете, картине на стене.
А когда взбесившийся от стремления жить ребенок начинал снова рваться, она испытывала ужас наступающих схваток и смутную радость: пусть скорее, ведь это неизбежно.
Розалия Самойловна негромко сказала Бэйле:
— Если вы думаете, что я бы себе пожелала рожать в первый раз в тридцать шесть лет, то вы ошибаетесь, Бэйла.
Вавилова не расслышала ее слов, и ей стало страшно оттого, что акушерка заговорила тихим голосом.
— Что, не выживу? — спросила она.
А Бэйла стояла у дверей бледная, растерянная и, пожимая плечами, говорила:
— Ну-ну. И кому это нужно, это мученье — ни ей, ни ребенку, ни отцу, чтоб он сдох, ни богу на небе. Какой умник это придумал на нашу голову?
Много часов продолжались роды.
Магазаник, придя домой, сидел на ступеньках крыльца. Он волновался, точно рожала его Бэйла. Сумерки сгустились, в окнах зажегся свет. Евреи возвращались из синагоги, держа под мышкой свертки молитвенных одежд. В свете луны пустая площадь Яток, домики, улицы казались красивыми и таинственными. Кавалеристы в брюках галифе, звеня шпорами, ходили по кирпичным тротуарам. Девушки грызли подсолнухи и смеялись в сторону красноармейцев. Одна из них скороговоркой рассказывала:
— А я ем цукерки и бумажки на него кидаю, а я ем та бумажки на него кидаю.
— А, — произнес Магазаник, — не мала баба хлопоту, купыла порося, мало мне своего, так вся партизанская бригада тоже должна в моем доме рожать. — Он вдруг насторожился и привстал. Из-за двери раздавался чей-то хриплый мужской голос.
Голос выкрикивал такие крепкие, матерные слова, что Магазаник, послушав, покачал головой и плюнул на землю: это Вавилова, ошалев от боли, в последних родовых схватках сражалась с богом, с проклятой женской долей.
— Вот это я понимаю, — сказал Магазаник, — вот это я понимаю: комиссар рожает. А Бэйла знает только одно: «Ой мама, ой мамочка, ой мама!»
Розалия Самоиловна хлопнула новорожденного по сморщенному влажному задку и объявила:
— Мальчик!
— Что я сказала! — торжествующе произнесла Бэйла и, открыв дверь, победно крикнула:
— Хаим, дети — мальчик!
И вся семья собралась у дверей, взволнованно переговариваясь с Бэйлой. Даже слепая бабушка ощупью подошла к сыну и улыбалась великому чуду. Она улыбалась и неслышно шептала. Дети отталкивали ее от двери, и она, вытягивая шею, тянулась вперед: она хотела услышать голос всегда побеждающей жизни.
Вавилова глядела на новорожденного. Она удивлялась тому, что ничтожный комок красно-синего мяса был причиной этих страшных страданий.
Ей представлялось, что ребенок у нее должен родиться большим, веснушчатым, курносым, с вихрастой рыжей головой, что он сразу начнет озоровать, пронзительно кричать, рваться куда-то. А он был слабенький, точно стебель овса, выросший в погребе, головка у него не держалась, кривые ножки шевелились, точно высохшие, бело-голубые глаза были слепы, и пищал он чуть слышно. Казалось, откройся резко дверь, и он потухнет, как тоненькая, согнувшаяся свечка, прикрепленная Бэйлой над краем шкафа.
И хотя в комнате было жарко, как в бане, протянула руки и сказала:
— Холодно ведь ему, дайте его сюда.
Человечек верещал, мотая головой. Вавилова, скосив глаза, боясь шевельнуться, следила за ним.
— Ешь, ешь, сынок, — сказала она и начала плакать. — Сынок, сынок, — бормотала она, и слезы одна за другой набегали на глаза и прозрачными каплями текли по щекам, расплываясь по подушке.
Она вспомнила того, молчаливого, и ей стало жаль их обоих острой материнской болью. Впервые она плакала о том, убитом в бою под Коростенем: он никогда не увидит своего сына.
«А этот, маленький, беспомощный, родился без отца», — и она прикрыла его одеялом, чтобы он не смерз.
А может быть, она плакала совсем по другой причине. По крайней мере, Розалия Самойловна, закурив папироску и выпуская дым в форточку, говорила:
— Пусть, пусть плачет. Это успокаивает нервы лучше брома. Они у меня после родов всегда плачут.