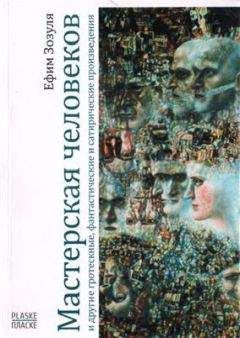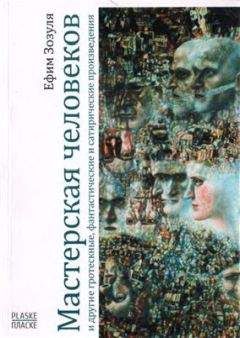Стоит ли рассказывать о тех, кто издевался над Лимонадой? Были и такие. Они давали Лимонаде эти спички. Конечно, это были дрянные люди, но Лимонада не обижалась на них. Она даже из вежливости обнюхивала коробку, хотя уже узнавала по виду ее ненужность и никчемность.
Завхоз Брыкин стал тих и задумчив. Он перестал кричать не только на некоторых заведующих отделами, но даже на простых служащих. А когда подвал был закрыт, он ходил по двору, заложив руки за спину, и беспрерывно зевал — на нервной почве.
Замечательно, что Лимонада в этот период не выходила из конюшни на двор. Она стояла у пустого стойла и лизала холодные доски, слизывая с них свою собственную замерзшую слюну.
К этому времени и относится посещение конюшни завхозом Брыкиным.
Он остановился на пороге и спросил:
— На черта ты мучаешь животное? Не много с нее возьмешь, а все-таки накормил бы товарищей. Как-никак — конина.
Кузьма подошел к Брыкину вплотную и ничего не ответил. И Брыкин понял, что Кузьма не отдаст Лимонады. Брыкин и не настаивал.
Между тем жизнь шла своим путем.
Отчет в типографии не был готов. В наборных отделениях было всего четыре градуса тепла, у рабочих мерзли пальцы. Кроме того, рабочие были голодны. Работа поэтому подвигалась крайне медленно.
И наш начальник, кутаясь все в ту же чудовищную шубу, говорил мне:
— Ну, как отчет? Типография все еще саботирует? Передайте им, что если отчет не будет готов до первого числа, все они будут в Чека.
Я не был согласен с тем, что рабочие саботируют, и считал упоминание о Чека в данном случае совершенно бестактным. И конечно, и не думал повторять нелепой угрозы в типографии.
Но отчет все-таки не подвигался, и поэтому, когда в наше учреждение кто-то неожиданно прислал целую повозку хлеба, я стал проявлять инициативу. Я подошел к повозке, остановившейся в центре двора. Вокруг нее уже стояли и ходили люди, а некоторые добровольно взяли на себя функции охраны, несмотря на то, что специальная охрана в лице возницы и члена профсоюза находилась тут же.
Все же я протянул руки и взял два больших хорошо запеченных вздутых хлеба. Взял и положил на землю у колеса. Затем взял таким же образом еще два хлеба и положил поверх первых. На меня смотрели с глубоким интересом, смешанным с изумлением, но не сказали ни слова. Я действовал властно, власть в то время имел тот, кто сильно хотел и знал, чего хочет, и поэтому мне никто не мешал. Подняв затем эти четыре хлеба не без труда — истощение не миновало и моего организма, — я отнес их в конюшню и положил около Лимонады.
Любознательность ее на этот раз не превысила обычной нормы. Лимонада посмотрела на хлеб, затем на меня и после паузы — на Кузьму, который лежал в углу на мешках и курил махорку.
— Запрягай Лимонаду, — сказал я ему, — отвезем хлеб в типографию.
— Никак нельзя, — тихо и торжественно ответил Кузьма, — никак невозможно.
— Почему?
— Ничего не знаете, что ли?
— Нет, не знаю?
— Товарищ Брыкин помер. Сейчас будем его хоронить. Окромя Лимонады, некому свезти.
— Когда же он помер?
— Два дня тому назад.
Я оглянулся на двор. Он показался мне более мрачным, чем обыкновенно, и скука, великая скука свисала с крыш домов вдоль бедных общипанных исхудавших стен и тусклых, во многих местах забитых досками и заткнутых тряпками окон.
Во дворе уже собирались товарищи, и у ворот двое привязывали к нашему знамени черную тряпочку.
Мне стало очень жалко Брыкина. Но чувство это не успело занять большого места в моем сознании. Оно мгновенно же уткнулось в технические соображения: на чем же свезут на кладбище беднягу? Не на экипаже же, надо полагать.
Тут я заметил, что перед одним из подъездов стояла тележка- «платформа», небольшая, но на которой гроб поставить можно было вполне.
Наконец Кузьма, бросив курить, вывел Лимонаду. Проходя мимо меня, она взглянула на меня, без особой, впрочем, значительности во взоре. Просто взглянула. Кузьма привычным жестом повернул Лимонаду и ввел в небольшие утлые оглоблишки несолидной тележки.
Товарищи, решившие провожать Брыкина, стали приближаться к подъезду. Повозка с хлебом осталась почти без зрителей. Человека три еще оставалось около нее. Это были наиболее настойчивые люди, наиболее деловые: их не удовлетворяло одно лицезрение хлеба, они, очевидно, хотели дождаться, чтобы увидеть, куда его отнесут и кто это сделает.
Минут десять спустя из подъезда под звуки «Вы жертвою пали» вынесли белый некрашеный гроб с телом нашего бывшего завхоза и бережно поставили на тележку. Надежда Ивановна, его помощница по службе, без слез, но, по-видимому, искренно переживая горечь утраты, накрыла гроб куском красной материи.
В общем, все было, что называется, прилично. Брыкина, работника комиссариата и члена советской организации, хоронили все-таки хорошо, не так, как неведомых обывателей: тех просто вывозили черт знает на чем. Зимою — чуть ли не на салазках.
Родных у Брыкина не было. За гробом стали его ближайшие товарищи по работе: члены месткома, заведующая складом, два артельщика и другие. А за ними остальные, желавшие отдать последний долг Брыкину. Говорили о том, что он был хороший человек и хороший товарищ. И действительно, похороны показали, что у него было все же немало друзей. Не понравился мне только один из тех, кто стал за гробом. Это хитрый эгоист Попов. Чистенький, аккуратненький, стройный, он стоял позади всех с велосипедом, который принадлежал комиссариату и которым нераздельно и неограниченно пользовался он один. Но разве это удобно — за гробом ездить на. велосипеде?
Лимонада, уже давно запряженная, стояла спокойно, одними глазами, не поворачивая головы, поглядывая по сторонам. Кузьма, несколько стеснявшийся необычной для него роли похоронного возницы, стоял шагах в десяти от готовой к шествию процессии.
Ждали почему-то коменданта дома. Когда он явился, захлопотавшийся, быстрый, и махнул рукой, Кузьма смущенно подошел к Лимонаде, взял вожжи и чмокнул, как всегда.
Но тут осталось невыясненным одно обстоятельство. Люди бывают забывчивы. Кузьма, очевидно, не подумал на этот раз о Лимонаде, пойдет ли она. А сена у него не было… Покойника же возить в кредит было бы совсем уж бессмысленно.
И когда Кузьма чмокнул губами и потянул вожжи, он застыл, смутился, растерялся, оглянулся, открыл рот. Он вспомнил.
И тут произошло следующее.
Собственно, не было решительно никаких оснований думать, что Лимонада и тут, при таком тяжелом случае, как покойник, не свезла бы его в кредит. Правда, Кузьма чмокнул губами и потянул вожжи. Но мало ли что! Он мог еще раз чмокнуть и потянуть вожжи. Лимонада вовсе не обязывалась пускаться в ход с первого чмокания. Таким образом, повторяю, весьма возможно, что Лимонада пошла бы в кредит; по крайней мере, я глубоко в этом убежден, но на всякий случай из жалости к Брыкину, из уважения ко всей похоронной процессии, ко всему комплексу благородных чувств, заставляющих людей оказывать почести уже никому не нужному трупу, я подошел к Лимонаде и дал ей ломоть хлеба, заблаговременно отрезанный в конюшне от одного из четырех хлебов, предназначенных для наборщиков.
Никто не обратил внимания на то, что в такой торжественный и печальный момент я подошел к лошади и стал ее кормить хлебом. Публика была дисциплинирована: если кучер на меня не кричал, то, значит, так нужно было. А Кузьма на меня не думал кричать. Наоборот, он с благодарностью смотрел на меня, в то время как Лимонада смотрела на меня виновато и смущенно, пока ее челюсти вяло от хронической слабости жевали тяжелый черный хлеб.
Четыре хлеба я запер в конюшне на замок и, так как замок был ржавый и слабенький, я на всякий случай посидел около конюшни до вечера, а вечером перенес хлеб в канцелярию и спрятал.
Утром же мы отвезли хлеб в типографию. Отчет набрали, отпечатали, и он выскочил в виде брошюры.
Лично я был рад этому чрезвычайно. Мне приходилось меньше бывать в этой очень далеко отстоявшей типографии, меньше приходилось прибегать к услугам Лимонады и слышать брань Кузьмы и удары палки по несчастным ее ребрам.
Однако эта же Лимонада, почти ничего не евшая, дошедшая до предельной худобы, трезвая Лимонада, знающая цену людям и никому не верящая, оказалась нужной мне, несмотря на мое нежелание пользоваться ее усилиями.
Работа моя была связана с частым передвижением по городу, а средств передвижения не было никаких. Два автомобиля находились в распоряжении начальства и были недосягаемы для нас, рядовых работников. Поэтому, когда арестовали чистенького и аккуратненького Попова за довольно регулярные хищения, я завладел его велосипедом и стал забывать о том, как мучили меня чувства острого стыда, неловкости и жалости, когда меня возила Лимонада.
Два месяца я носился по холмистым улицам Москвы на благородной стальной машине, не знающей усталости и не имеющей чувств, столь ненужных и тягостных для раба и осложняющих чувства повелителя.