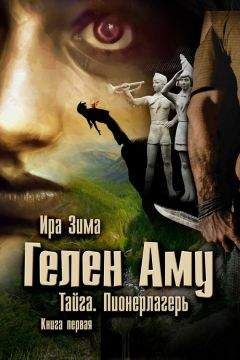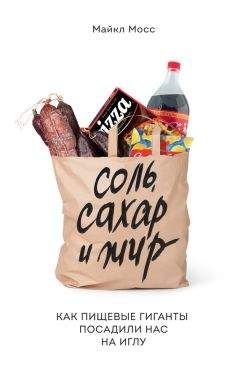Мазель не понял его иронии.
— Да, здесь вредное солнце. — Подвигал плечами и прибавил, как бы извиняясь: — На юге всегда бывает жарко!
Азиатский торг был в полном разгаре. Никто в отдельности не кричал о своем товаре, как подобало бы купцам, но трудно было в этой сутолоке вести даже и не задушевный разговор. Звон чайханной посуды, лязг безменов, полдневный вопль ишаков, шелест ссыпаемого риса и, наконец, зычные призывы базарного глашатая, который машистой походкой и с пророческим посохом обходил разноплеменную эту толпу, — все слилось в упругий, именно шмелиный гуд. Мазель происходил из крохотного местечка под Одессой, имя его было Шмуль, но товарищи прозвали Шмелем, — отсюда и заскользнул этот образ в мароновское сознание.
— Откуда?..
Маронов еле отскочил от глашатая, борода которого на солнце отливала зеленым.
— С Новой Земли, Шмель… и прямо сюда. Тот недоверчиво прищелкнул языком:
— Опять шестиэтажная какая-нибудь авантюра!
— Шмель, ты знаешь меня? Я ищу драки. И потом — где есть земля, там должны быть и люди!
— Робинзоны! — усмехнулся снова Мазель на мароновское мальчишество. — А Яков, значит, вконец забросил музыку?
— Нет, у нас там был граммофон.
Мазель внимательно взглянул на Петра; ему почудилась издевка, порожденная какой-то сверхчеловеческой усталостью, но скуластое, полузырянское лицо Маронова улыбалось, и озоровато щурились зоркие знакомые глаза. Она слепила в этот час, неистовая азиатская палитра.
— …и долго вы там?
— Три года, Шмель.
— Это, наверно, очень интересно?
— Как тебе сказать… Я понял, почему человек боится тюрьмы. Трудней всего переносить свое собственное общество. Тогда он постигает цену себе и может подсчитать, много ли накопила его душа. Оттого-то он и стремится к объединению с себе подобными…
Маронов смутился тихой Мазелевой улыбки и не договорил. Чтобы объяснить, он хотел приступить наконец к своему невероятному повествованию, но Мазель перебил его:
— Постой… ты не спешишь? Зайдем ко мне. Я в отпуску и сегодня гуляю последний день. Дело в том, что жена моя не раз вспоминала… — Он подошел ближе и, глядя в самые губы Маронова, прибавил твердо: —…о вас. Ей, наверное, будет очень интересно послушать ваши приключения.
Петр вопросительно пожевал свои губы; он по догадкам знал обстоятельства, в силу которых Яков поехал с ним на Новую Землю, и потому ему был не особенно ясен этот душевный оборот Мазеля.
— Хорошо. Но только пойдем по солнечной стороне. Я приехал греться, Шмель. Веди меня в самую Азию, в самое пекло веди. Иззяб я в этой чертовой тундре…
— На севере, должно быть, холодно, — тихо вставил Мазель.
— Вот именно… ты всегда прав, Шмель, тебе нельзя возражать! Знаешь, бывали часы, когда мы дрожали так, что тряслась посуда на полках. Мы не разбирали слов друг у друга, мы мычали. Ты смеешься?
— Нет, Петр, я не смешлив.
Тесный дворик, обсаженный тутовником, заливало солнце. Огромная, размером с комод, собака дремала в тени глиняного дувала. Черные мухи вились над ней. Мазель свистнул ей, и та, не просыпаясь, вильнула хвостом. Потом он спросил, остановясь как бы затем, чтоб приласкать собаку; Маронов не видел его наклоненного лица.
— Кстати, я хотел спросить… Яков приехал вместе с тобой?
— Нет, Яков умер год назад. Цинга пополам с тоской!
Мазель кашлянул и продолжал гладить собаку.
— Разве не было лекарств?
— Нет, мы пили отвар сосны… Это все равно что при оспе мазать йодом ножки кровати.
— Мне жаль Якова, — сказал Мазель просто.
— Не горюй, Шмель, будь искренен!
— Мне очень жаль Якова, — повторил Шмель, поворачиваясь лицом к Маронову.
Больше они не обменялись ни одним словом о Якове, ни в тот день, ни в один из последующих. Открытую дверь, кроме собаки, сторожила кривая усатая швабра. В сенях на кирпичном полу стояла непросохшая лужа, и пахло мыльной пеной. Комнату делила повешенная наспех простыня; жена Мазеля одевалась за нею. Из-под простыни видны были ее голые до колен ноги, стоявшие на скомканном и мокром полотенце. Петр почти с испугом вспомнил вчерашнюю туркменку: это лишало его той уверенности, которая потребна была для предстоящего разговора.
— Тебе звонил Акиамов, — сказала женщина, узнав шаги мужа. — Он просил тебя зайти.
Мазель подошел к самой простыне:
— Ида… — голос его звучал виновато, — не волнуйся. Приехал младший Маронов и привез дурную новость: полгода назад умер Яков.
— Год, — деловитым баском поправил Петр.
— …год? Да, извини, год.
Никто не отозвался на известие, но Петр видел, как черный целлулоидный гребешок упал по ту сторону простыни. Ни муж, ни жена его не поднимали. Потом женщина сказала глухо:
— Я сейчас оденусь. — И даже простыня не колыхнулись.
Петр стоял у окна. Он был юн и соответственными эмоциями начинен до отказа; все эти пустячные детали представлялись ему бесконечно значительными. Он обернулся к окну и изобразил на лице достоинство печального вестника… В город вступал караван, длинный и пыльный — наверное, из Афганистана. На ишаке, болтая ногами в опорках, ехал караван-баши. Лицо его не выражало ничего; может быть, он мысленно пел. Разнозвучно, качаясь на облыселых верблюжьих шеях, плакали и кричали колокольцы. Все звуки в городе умерли, и только эти осколки древнейшей человеческой мелодии волновались и цвели; их можно было насчитать две октавы. Маронов глазами проследил поводыря, пока тот не скрылся за величественной глиняной кулисой. Ему показалось, что он уже слышал однажды эту музыку, не то в выветрившемся детском сновиденье, не то… Ему некогда было вспоминать: наступала минута, для которой он примчался в Среднюю Азию. Кроме того, усилилась пыль, поднимаемая тысячами верблюжьих ног, и Маронов спокойно закрыл окно.
Потом, когда он оглянулся на хозяина, того уже не было в комнате.
— Он пошел к Акиамову. Это председатель исполкома. Ну, садитесь. Вы брат Якова? А не похожи… — и качнула головой.
— Я много моложе его. Шмель хороший парень! — сказал Петр.
— Хотите сказать — догадливый? — подсказала женщина без всякого упрека. — Что же, вы встретили его случайно?
— Не совсем.
— Значит, имеете прямые поручения?
— Нет, — солгал он. Она подумала.
— Ага, любопытно. Ну, вы сделали довольно большой путь.
— Да, это даже по глобусу три с половиной вершка. Сказать правду, мне интересно было взглянуть на женщину, из-за которой Яков метнулся на Новую Землю.
— Но ведь вы также поехали с ним. У вас были похожие обстоятельства?
Маронов как будто даже обиделся и потупился: такой уже выработался у него рефлекс — при обидах опускать глаза.
— Я был здоров, искал драки и ищу. Республика пошлет меня завтра на Мадагаскар — и я буду счастлив.
Женщина улыбнулась на многословную приподнятость младшего Маронова: как все-таки они не были похожи друг на друга, братья!
— Скажите, Яков умер… сам? — она не волновалась, произнося это имя.
— Нет, от цинги. Видите? — Он приоткрыл десны, и отраженное солнце щедро блеснуло в золоте его зубов. — Одного товару рублей на триста!
Она уже привыкла к мароновскому стилю.
— Да… ведь это началось у него давно, еще в те годы, когда люди вообще бывали склонны заболевать тифами, ненавистями, несбыточными любовями…
— Пустяки. Яков был достаточно трезвый человек. Вы знаете тот случай, когда он попал в деникинскую контрразведку?
— Да, я читала. — Она пристально поглядела на Маронова и решила, что единственное сходство с Яковом — в том резком жесте, которым оба как бы подсекали произнесенные слова.
Она спросила, только чтоб скрыть маленькое свое смущенье:
— Как все это случилось?
— Сколько у вас есть времени… слушать?
— Куда же мне идти с мокрой головой!..
— Хорошо. Я поехал туда по контракту… За три дня Яков пришел ко мне ночью и попросил взять с собой. Я посидел с ним двадцать минут и понял, что ему это действительно необходимо… — Маронов бессознательно коснулся пальцами редковатых усиков, оставленных на верхней губе, и сконфуженно отдернул руку. — Он ночевал у меня, а наутро мы подписывали с ним какую-то бумагу со множеством пунктов. Нам давали полтораста собак, ружья, бочку масла, тулупы, консервы, бинокль, разборную избу, метеорологическую станцию, керосин, аспирин и ящик апельсинов.
— А книги?
— Я взял с собой много чистой бумаги. У меня были особые намерения на этот счет. Я хотел написать знаменитую книгу, содержанья которой я пока не знал.
— Нет, я спросила про Якова.
— У него не было никаких вещей, кроме одеяла. У него был полосатый плед, под которым он спал… вы, конечно, помните его? — Она покачала головой и простила ему его дерзкую, стремительную юность. — Когда пароход отходил, оставив нас на берегу, мы завели граммофон и сели на голых новоземельских камнях: нам казалось, что так смешнее. Был четверг, шел снег. Собаки выли, мужчины были пьяны.