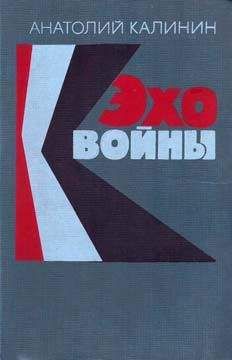А Наташа с подружкой Валей после дождя могли по полдня простаивать с удочками под береговыми вербами по колено в воде. И тут же, неподалеку от них, безбоязненно собирали свой улов такие же голенастые цапли.
Опять забурлили под корундовой иглой потоки, подобные тем, что низвергаются весной из степи в Дон по всем балкам. В этом концерте Чайковского и вообще много водопадов, шумят реки. Но откуда же и у техасского пианиста это русское чувство в музыке? И вот уже его руки опять вступили в свой разговор — как два голоса. В одном — и обещание и нежность, а в другом — и мольба и тревога. Вот и скрипки не могут от нее скрыть, что возврата в страну безоблачных снов уже не будет.
Утро само по себе прекрасно, но этого еще мало, чтобы возместить ее потерю.
А это? — спрашивает он и начинает свое восхождение с нею с порога на порог. На такой высоте она еще никогда не была — и все-таки ей хочется узнать еще больше. Тем более что в томящих ее предчувствиях многое для нее еще совсем непонятно. Ожидание счастья уживается в них с грустью.
И это! Они поднимаются выше. Ей хорошо и страшно, но и это еще не все счастье. Должно быть и еще что-то такое, о чем, наверное, знает этот колокольчик, зазвеневший у нее в сердце.
И тогда таким же колокольным звоном рассыпается под руками пианиста из Техаса та самая песня, которой, вероятно, его и сумели заманить эти березы сюда, на берега русского половодья:
Выйди, выйди, Иванку,
Заспивай нам веснянку,
Зимовалы — не спивалы,
Весну дожидалы.
От этого колокольного звона она и пробуждается от сновидений своего детства.
Теперь уже пластинка совсем закончила свой бег под корундовой иглой, и в комнате на веранде стало тихо.
И опять можно услышать, как сосет из-под яра глину Дон, а ветер, ударяясь грудью о грудь воды, издает вздохи — как эхо оркестра.
И гудки самоходных барж, теплоходов и катеров, бороздивших Дон вверх и вниз, вечно будили, куда-то звали. В густой туман они часто бросали якорь перед островом, прямо против дома, и по воде далеко расстилался звон сигнального колокола. В годы раннего Наташиного детства самым большим из ходивших в этих местах судном считалась двухпалубная колесная «Москва», окрашенная в цвет июньского неба, а потом, когда появилась у Цимлы плотина, из Волги по шлюзовой лестнице спустились еще невиданные здесь теплоходы и дизель-электроходы. Ночами блуждающие по Дону в поисках фарватера судовые прожекторы выхватывали из темноты унизанные капельками росы береговые талы, обремененные гроздьями лозы в придонских виноградных садах, изломанные улочки хуторов и станиц. Забирались и внутрь домиков, пробегая по затейливой резьбе старинных комодов и по зеркалам новомодных шифоньеров, по большим фотографическим портретам не вернувшихся с войны солдат и по спящим лицам их жен и детей.
Наташа внезапно просыпалась в своем углу на веранде. Вихрь света, сдернувший с нее покрывало сна, уже убежал вперед и блуждал где-то среди верб островного леса. Проплыли мимо огни — и вот уже заглох у станицы Раздорской звук судовой машины. И вновь обступала тишина, нарушаемая лишь гулкими толчками сердца.
Если долго вслушиваться в эту ночную тишину, она начинает звенеть все громче и громче. И вскоре уже все гремит: и Дон, и остров посередине Дона, и всходящая из-за ветвей леса багровая луна, и сама ночь, как огромный, опрокинувшийся над землей звездный колокол, в стенку которого с необъяснимой испуганной радостью ударяет сердце.
Весной и летом над Доном часто бушевали грозы. С утра небо чистое, как и вода в Дону, сквозь которую у берега можно пересчитать на его дне обросшие лохматой зеленью ракушки, солнце такое, что на песчаную косу нельзя смотреть, — и вдруг сразу поднимается низовка, вздымает бугры волн и срывает с них пену, из-за горы надвигается мрачная туча и над самым хутором лопается, разрешаясь бурным ливнем. Матери зовут с Дона детей исступленными голосами. Лодки с доярками и огородницами, застигнутые грозой на переправе через Дон, пляшут на гребнях волн. Наташа прибегает с берега домой, уже вся исхлестанная дождем, с платьицем в руке.
Весь день гудит Сибирьковая балка, по которой вода из степи рвется через хутор к Дону. Прямо через двор бушует ерик, несет вниз вымытые из-под Володина кургана глыбы ракушечника, окатыши красной глины. Вода у берега Дона, разбавленная глиняной жижей, становится ярко-оранжевой.
Луговой, если он дома, вооружившись лопатой, старается не дать потоку прорваться в подвал. Сбегающая из степи вода пахнет полынью, пшеничным полем. Деревянный дом на яру сотрясается от ударов, а если гроза продолжается и ночью, в нем все время светло от вспышек молнии. При этих вспышках задонский лес со стогами лугового сена на прибрежной опушке и с широкой просекой, уходящей к займищу, встает как нарисованный.
Наташа, которая в детстве страшно боялась грозы, а с недавних пор уже совсем не боится ее, или стоит под навесом крыльца и смотрит в ярко озаряемый грозой затопленный двор, или, босая, помогает матери собирать во все кадушки, корыта и ведра дождевую воду, или же так и засыпает у себя на веранде под канонаду грома.
А утром она опять проснется от тишины. Вымыт, выкупан каждый листик, прилипший к стеклам веранды. Дон опять такой же синий, как и утреннее небо. И во дворе, в саду, куда Наташа перебирается своим наикратчайшим путем, через окно, кусты винограда, кусты смородины — все окутано запахами теплых испарений, всюду капли дождя.
— Куда же ты? Завтракать! — кричит ей вдогонку мать.
Наташа и не оглянется. Конечно, на Дон, смыть остатки сна. Оттуда с Валей на старые колхозные базы за червями для рыбалки. А может быть, и прямо в степь, на бахчу, где сторож выставит циркулем из своей халабуды ноги и по целым дням спит, а двустволка висит у него над головой на сучке. По хорошему арбузу съесть — и весь завтрак.
Ну и мало ли еще куда, когда солнце еще только выкатывается из-за Дона.
Но и к повзрослевшему чубуку нельзя опоздать с помощью, когда его отрывает ветром. Иначе он может надломиться… И пожалуй, жена права, что впервые подуло этим ветром у них в доме не день и не год назад, а гораздо раньше. Но дальше жена умолкает, то ли сама недостаточно уверенная и своих догадках, то ли как будто боясь их. И он не вправе рассчитывать на ее откровенность после того, как однажды, когда, может быть, еще не поздно было подвязать чубук, она сама попыталась поделиться с ним своими тревогами и наткнулась на его иронию, как на стенку.
Не день и не год назад, а, скорее всего, с того самого лета, когда последний раз приезжала из Москвы на каникулы Любочка. За все это время он так и не собрался подумать, что у него уже взрослая дочь, целиком поглощенный своей войной из-за этих склонов, краснеющих сквозь полынь глиной. И войне за то, чтобы засадить их виноградной лозой, не видно конца, и еще неизвестно, не опоздал ли он уже со своей помощью дочери. Он даже не знает, какая ей нужна помощь.
Конечно, где-нибудь на задворках памяти можно найти доказательства, что и он был для нее отцом если не лучше, то не хуже, чем для своих детей другие. Из своей памяти человек всегда властен извлечь только то, что ему надо. Сразу же появятся такие подробности, что впору будет и самому поверить в свою безгрешность. И то, как, несмотря на занятость, он все же находил время, чтобы спеть ей песню о казаке, которая потом так и сделалась ее колыбельной песней; и то, как ходил с нею за руку по бахче в конце двора, объясняя, где арбуз, где дыня, которые вскоре так и объединились у нее под одним названием абуздыня; и многое другое.
— Казака! — требовала она, едва успев обхватить своей ручонкой его жесткую шею, и не закрывала глаза уже вплоть до той самой поры, пока весенняя птаха не поселялась в калине у изголовья этого умершего на далекой чужбине казака.
Но часто Луговому и не надо было петь, а только прислушиваться вместе с нею к этой же песне, доносившейся из старых виноградных садов — из бригады Дарьи Сошниковой.
А на самом краю бахчи они обычно усаживались на больших белых тыквах, нагретых солнцем. Пахла агудина, и кузнечики стрекотали в дерезе, буйно-зеленой волной перехлестнувшей из двора через забор, через кромку яра… Сколько ни вырубали ее тяпкой, а то и топором, росла и даже сиренево, весело зацветала в самом конце лета, когда все остальное уже чернело, вяло.
Да и вообще-то отцовская любовь стыдлива. А то, что уехала, еще не причина, чтобы теперь взваливать на себя какую-то вину. Все дети уезжают. Странно было бы, если бы она решила навсегда привязать себя к дому. Не для того ли у птенцов и отрастают крылья, чтобы они могли покидать гнезда!
Да, уезжают все дети, но как?
И вот уже выясняется, что у той же самой памяти есть про запас и другое. Притом совсем противоположное тому, что она только что нашептывала на ухо.