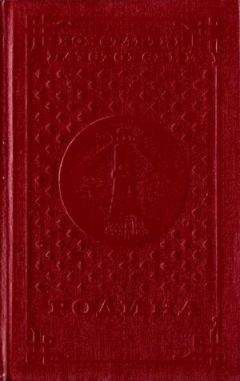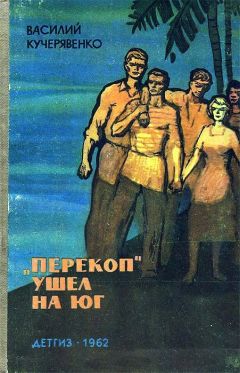Я посмотрел на него. Он мельком взглянул на меня и хлопнул ладонью по столу.
– Я еду в Америку, – сказал он, встал и сделал ко мне два шага. – Я еду в Америку. И мы разворошим эту помойную яму. Хватит! Вы думаете, что мы не справимся? Мы, моряки? Хо!
Он замолчал, а ответило море, ударившее в набережную с широким раскатистым гулом.
– Хо! – повторил Паркер. – Оно, – он показал на окно, за которым гудело море, – оно нас выучило, и мы ему не подгадим.
Утром я вышел проводить Паркера. Дождь прошел. В голубом тумане блистали цепи далеких гор. В пустых кофейнях турки, позванивая чашками, перетирали посуду. Вялый ветер едва подымал полотнища флагов.
– Прощайте, – сказал Паркер и сжал до хруста в костях мою руку.
Он пошел к американскому грузовому пароходу, на котором собирался уехать. Солнце горело на его крепкой шее. В море, просверкав парусами, тонула в тумане фелюга, груженная золотыми лимонами.
1925
Многие утверждают, что племя моряков измельчало. Говорят, что отчаянные шкипера с тяжелыми револьверами в карманах давно уже вымерли и оживают только в воображении людей, читающих романы Стивенсона. Принято думать, что буйный нрав моряков переменился с тех пор, как появились теплоходы.
Это – глубочайшее заблуждение. Я встречал в своей жизни много морских людей. Мне нет надобности рассказывать обо всех знакомых матросах, боцманах и капитанах, чтобы рассеять этот ошибочный взгляд. Достаточно капитана Кравченко – одного из первых капитанов-коммунаров в России, организатора восстания в городе Брисбене в Австралии, журналиста и ярого поклонника Бабеля. Сейчас Кравченко плавает в полярных морях.
Он высок, неуклюже вежлив и никогда не снимает своего шотландского кепи.
Когда он ходит – по его словам, «мотается», – то половицы в комнатах скрипят, как палуба паршивенькой шхуны. Переносица – «мост» – у него разбита ударом бокса, и поэтому нос имеет несколько странный вид. Он любит хронометры и крепчайшие папиросы, ненавидит «затрушенных» интеллигентов, ливерпульских матросов и британский флаг. Но больше всего в мире он ненавидит ложь и трусость.
Я познакомился с ним осенью 1923 года в дачном поезде между Москвой и Пушкином. В Пушкине мы жили в пустующих дачах. Осень в том году стояла ледяная и горькая, полная запаха гари и старого вина.
По любому поводу, взглянув на первую попавшуюся в глаза вещь – на папиросу, пуговицу, семафор или кепку соседа по вагону, – Кравченко вытаскивал из невероятного багажа своей памяти какой-нибудь редкостный случай и рассказывал его так, что весь вагон слушал, затаив дыхание. Рассказы сыпались из него, как пшено из лопнувшего мешка.
Во время одного из ночных возвращений в Пушкино капитан долго рассматривал работницу в красном платочке, дремавшую в углу вагона, потом спросил ее деревянным голосом:
– Вы рожали?
– Как?
– Детей, говорю, рожали?
– Рожала.
– С болью?
– Да, с болью.
– Напрасно.
Я проснулся от изумления. Свеча отчаянно мигала, умирая в жестяном фонаре. За окнами мчалась назад, ревя гудками, лязгая десятками колес, обезумевшая ночь. Мосты звенели коротко и страшно.
– Вот это – шпарит! – Кравченко расставил покрепче ноги. – А с болью вы рожали, выходит, зря. От дикости. В Австралии не так рожают.
Работница недоверчиво улыбнулась.
– Вы не смейтесь. Это верно. Женщине впрыскивают в кровь особый состав, и она рожает во сне. Поняли? Мышцы сокращаются, ребенок выскакивает, все идет гладко. Ни один мускул не сдает. Этот способ практикуется только в Австралии, и то в виде опыта над арестантками.
Узнал я об этом в брисбенской тюрьме. Меня упекли за организацию восстания, – но об этом мы поговорим особо. В тюрьме я натворил кучу дел. Надзиратель принес ведро кипятку, чтобы я вымыл пол в камере. Я спрашиваю:
– Будьте добры, скажите, что написано над воротами тюрьмы?
Он удивился:
– Брисбенская тюрьма его величества короля Англии.
– Так пускай король сам моет полы в своей тюрьме, – я ему не обязан.
За это меня загнали в карцер. Я схватил дубовую табуретку и с восьми вечера до часу ночи дубасил в дверь изо всей силы. Тюрьмы там гулкие, с чугунными лестницами, – чувствуете, что поднялось. Тарарам, гром, землетрясение. Но терпеливые, черти! Молчали. Когда я сделал передышку, пришел начальник тюрьмы.
– Как дела? – спросил он ласково.
– Благодарю вас, сэр. Вот отдохну малость и начну снова.
Он пожал плечами и ушел. Я колотил с двух часов ночи до семи утра. В семь меня вернули в мою камеру, – пол был начисто вымыт.
– Это не арестант, а дьявол, – говорили сторожа. – Из-за его джаз-банда арестантка номер восемнадцать родила на месяц раньше срока.
– Ребенок жив? – спросил я.
– Жив.
Я написал ей поздравление на клочке конверта и передал в лазарет. «Простите, милая, – писал я, – что из-за меня вам пришлось поторопиться!»
Тогда-то вот я и узнал об этом способе, – она родила во сне здоровую девочку. Я видел ее во дворе при лазарете, меня тоже потащили в лазарет, – я симулировал падучую. Я испортил им много крови.
– Вот! – капитан вытащил из кармана толстую книжку. – Вот описание этого способа. Книга издана в Сиднее. Я перевожу ее на русский, – Наркомздрав издаст, и ваши мученья окончатся.
Капитан стал развивать изумительные перспективы, – новый способ рожать приведет к неслыханному изобилию, республика завоюет весь мир.
– Матери поставят вам памятник на вашей родине в Мариуполе, – сказал я. – Бронзовые пеленки будут обвивать ваш пьедестал лавровым венком. В вашу честь Прокофьев напишет марш грудных детей, – торжественный марш под аккомпанемент сосок. Рыбий жир будет переименован в жир капитана Кравченко.
Работница засмеялась. Проревел гудок. Поезд в облаках пара и дыма подходил к Пушкину.
Каждый день я узнавал новые истории – о знакомстве капитана с Джеком Лондоном, о судебных заговорах в Америке, о морских качествах норвежцев, о кораблекрушениях и австралийском способе произносить революционные речи.
Каждый день я приходил к капитану в его комнату, похожую на ящик от сигар. Капитан любил плакаты пароходных компаний и заклеил ими дощатые стены. Плакаты гипнотизировали белок. Они сидели на сосне против капитанского окна и, вытаращив булавочные глазки, рассматривали черные туши кораблей и желтые величественные маяки. Капал дождь, и виденье экзотических стран застилало беличьи глазки синей пленкой слез и восторга.
По вечерам капитан возился над бесшумным примусом своей конструкции. Все у него было необыкновенно: и примус, и механический пробочник, и самодельный радиоприемник из коробки от папирос, и груды очень толстых книг, казавшихся старинными. Выбор книг говорил об устойчивых склонностях их громоздкого хозяина, – там были лоции, мореходная астрономия, сочинения Ленина, диалектический материализм, Джек Лондон по-английски, много географических карт и Библия – он читал Библию исключительно с целью уличить во лжи поповскую клику.
История капитанских плаваний, сиденья по тюрьмам и религиозных диспутов с патерами была так сложна, что он и сам не мог привести ее в порядок. Его выгоняли из всех мореходных школ за буйство и «анархизм». Его выгоняли с норвежских шхун за то, что он «менял профили шкиперов», – легендарных шкиперов, кормивших матросов после аврала солониной с червями. Они еще не вымерли, эти дубленые, как кожа, рыжие шкипера. Его выгоняли с сахарных плантаций в Австралии, где он рубил тростник – «сладкие палки», – за то, что он вызывал на бокс надсмотрщиков и сворачивал им челюсть на третьем ударе. Вызывал же он на бокс за каждый пинок ногой «цветному рабочему» – китайцу или русскому.
И, наконец, президент Хьюз – то были годы интервенции – изгнал его из Австралии за организацию «коммунистического восстания» в Брисбене, за протест против формирования отрядов для борьбы с Советской Россией.
Хьюз сказал его жене:
– Вашего мужа, миссис, надлежит повесить. Но Австралия гуманна, и я приказал выслать его в распоряжение представителя истинной русской власти – генерала Деникина.
На деникинскую виселицу его везли через экватор, тропики, океаны, душные и синие, как тяжелое африканское небо.
Он переменил двенадцать тюрем. В бомбейской тюрьме он потерял зубы от цинги, – его кормили две недели соусом керри – острым, как разбавленная азотная кислота.
В Константинополе, за два часа до отправки в Одессу, он бежал.
Потом он опять попался, сидел в лондонской тюрьме и изображал из себя норвежского кока-идиота. И если бы не «британская дурость», мешавшая следователям допросить его по-норвежски (на этом языке Кравченко знал всего десяток слов), то он бы неизбежно «понюхал веревку, смазанную марсельским мылом».