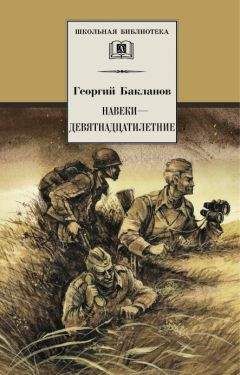Чувства горечи, боли и сострадания, захватывающие читателя повести, усиливаются еще и тем, что Бакланов лишает нас наивной, но успокаивающей совесть иллюзии, что каждая солдатская смерть на войне что-то привнесла, чем-то приблизила нашу победу… Увы, смерти были и случайны, нелепы, и смерть Третьякова, уже раненного, направляющегося в санбат, – прямое тому доказательство.
Не каждому солдату удалось, как Матросову, гибелью принести прямую, реальную помощь своему подразделению, спасти жизнь товарищей. Это горькая истина, но она необходима нам, чтобы еще глубже понять трагедию войны…
Размышления писателя о произведении другого писателя редко носят характер литературной критики. Не стремлюсь к ней и я, а только хочу сказать, что эта повесть-реквием, очевидно, должна была появиться в нашей литературе, чтобы вместе с другими книгами о войне тревожить наши сердца и заставить нас еще и еще раз возвратиться и мыслью и чувством к тому великому, чем была для нашего народа Отечественная война.
В. Кондратьев
Навеки – девятнадцатилетние
Тем, кто не вернулся с войны.
И среди них – Диме Мансурову,
Володе Худякову – девятнадцати лет.
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Ф. Тютчев
А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.
С. Орлов
ГЛАВА I
Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.
Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в руки, по ней определили: наш. И должно быть, офицер.
Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки, которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым блеском молодые зубы.
– Накройте плащ-палаткой, – сказал режиссер. Он прибыл сюда с киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте прежних, давно заплывших и заросших окопов.
Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце, пар подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.
Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет назад, сидел он и в эту ночь в разрытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.
ГЛАВА II
В Купянске орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не доносило оттуда.
Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну, слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.
Лязгали, сталкиваясь, железные буфера вагонов, наносило удушливый запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди, перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так либо оно валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом в долгой обороне, а еще острей – в училище, где кормили по курсантской тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом. Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами – в пересохшем горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог…
Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые: они из рук рвали и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно подвигалась она к окошку – лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей, чье-то хлопчатобумажное БУ – бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или осколок, несло второй срок службы.
Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие – с необъяснимой искательной улыбкой.
– Следующий! – раздавалось оттуда.
Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко, прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были тонкие, кожаные, такими не грязь месить, по досочкам ходить.
Хваткие руки тылового солдата – золотистый волос на них был припорошен мукой – дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки легкого табаку:
– Следующий!
А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.
Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами – и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над водокачкой, – все это даровано ему в последний раз вот так видеть.
Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась невдалеке:
– Закурить угости, лейтенант!
Сказала с вызовом, а глаза голодные, блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить.
– Садись, – сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда – все.
Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми, загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах кожей она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.