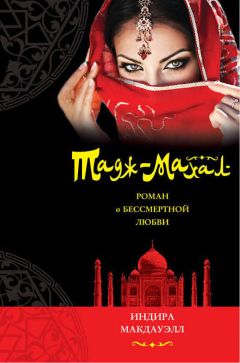А молотьба-то здесь! Босой крестьянин в рваных штанах из холстины погоняет пару костлявых лошаденок ростом чуть повыше телят, и они волокут по снопам толстое бревно… Железнодорожная станция: два черных быка, заменяющих маневренный паровоз, цепями тащат по рельсам товарный вагон с надписью «Romania».
Вот она какая, заграница, чужая земля! В другой раз я прильнул к пробоине, услышав гулкий грохот. Мелькали пролеты железнодорожного моста, внизу колыхались зеленовато-мутные волны, а вдали ступенчато поднимался к облакам гористый берег в желтеющей лесной накидке.
— Ребята, кажется, через Дунай едем, — сказал кто-то, стоя у люка.
— Может, нас и не в Германию везут? — робко предположил другой.
— На Балканы!
— Это было бы неплохо! — встрепенулись мои соседи.
«Если попадем на Балканы, — подумал я. — можно считать, что нам повезло: все-таки ближе к родине!».
Еще одну ночь нас изрядно мотало, а утром, наконец, дверь вагона с визгом отворилась. Я увидел лесистые горы, повитые туманом, в ноздри ударил воздух, показавшийся мне необыкновенно свежим и чистым. Я спросил у конвойного по-немецки, где мы. Он был настроен благодушно и буркнул:
— Südslawien!
Югославия! Это слово у нас в роте произносилось с особым чувством. Читая краткие газетные сообщения о героической борьбе югославских партизан, мы душой всегда были с ними. Вот почему хорошим предзнаменованием показалось мне то, что я попал в Югославию.
Эшелон наш пригнали в город Ниш на юге Сербии. Городок этот небольшой, лежит в котловине у речки Нишавы, бегущей в Мораву. Улицы в нем узкие, кривые, кругом форты… Окрестные покатые горы, прорезанные ущельями и поросшие лесом, круто поднимаются к востоку, сверкая голыми вершинами.
Мысль о побеге не оставляла меня, когда я, очутившись в Нише, оглядывался, старался все приметить. Нас разместили в старинной турецкой крепости. Многие из нас нашли свою могилу здесь, в мрачной башне Келекула, хранившей еще память о янычарских зверствах. На забуду солдата из моего полка, который, узнав меня, невольно крикнул: «Это вы, товарищ лейтенант?» Немцы его услышали, стали выпытывать: «Кто лейтенант?» Он умер от жестоких пыток, но не выдал. Другие погибли от истощения, от болезней. Тех же, кто кое-как держался на ногах, в том числе и меня, некоторое время подкармливали месивом из кукурузной муки, а затем посадили на грузовик и отвезли в концлагерь «Дрезден» возле городка Бор, разделив на группы, строго изолировав русских друг от друга.
…Теперь, лежа на своих нарах и восстанавливая в памяти ход событий, я старался угадать: какое же сегодня число? Этого не знали и мои товарищи. «Нас везли сюда больше недели, — думал я. — В Нише я был дней десять да тут уже около двух недель. Выходит, седьмое ноября близко. Но минул этот день или нет еще?..»
Со двора донесся скрип колес по щебню. Я знал: это черная фура с белым крестом — мертвецкая на колесах — кого-то отвозила «на свободу» — в ров, неподалеку от лагеря!
Я открыл глаза. Окна с двойными решетками и ржавой проволочной сеткой начинали чуть заметно синеть. Сейчас войдет автоматчик с собакой, заорет: «Aúfstehen! Schnell!»[1] — и над головами спящих, заходясь и захлебываясь, зальются звонки, вырвут людей из короткого глубокого сна. Нас построят в колонну и погонят к медному руднику, или на каменный карьер, или на строительство дороги.
Рядом со мной, скрестив на груди черные от загара и грязи потрескавшиеся руки, открыв рот, храпел Алекса Мусич. От его шумного дыхания шевелились курчавые волоски в спутавшихся длинных усах и бороде. Точно каждую минуту собираясь встать и уйти, он и ночью не снимал с себя коротенького зипуна домотканого сукна и лаптей-опанок из воловьей кожи, прикрученных к ногам ремешками. Мусич был со мной в одной группе. Узнав, что я русский, он со дня моего прибытия в лагерь старался держаться поближе ко мне. Я учился от него сербскому языку и легко усваивал его: сербские слова так похожи на русские! Постепенно мы стали неплохо понимать друг друга. Он рассказал, что дважды убегал из нацистских лагерей. Первый раз полицейские нашли его в селе Беларека, у больной жены. Когда же Мусич убежал во второй раз, он, придя в село, увидел на месте своей хаты пепелище, а возле обугленного сливового деревца холмик, под которым соседи похоронили его замученную эсэсовцами жену. Наверное, с той поры и загорелись каким-то лихорадочным, мрачным огнем темные, глубокие глаза Алексы. Его опять поймали, прежде чем он успел уйти к партизанам, и упрятали в самый страшный концентрационный лагерь — «Дрезден».
…Хлопнула дверь, затрещали звонки. В лагере начиналось утро».
«День выдался холодный, слякотный. Низкие сизые тучи, плотно сойдясь, скрыли солнце. Нудно моросил дождь.
Выстроенные по команде «смирно», мы стояли в грязи, не смея пошевельнуться, а перед нами, в черном плаще с поднятым капюшоном, похаживал начальник тодтовских лагерей в районе Бора фронтфюрер Шмолка. Этот маленький, приземистый человек с выпученными желто-белесыми глазами пунктуально, через каждые три дня, обращался к нам с назидательной речью. Его не смущала никакая погода. Напротив, именно в плохую погоду, в дождь и холод, он отличался особым многословием. Ему доставляло истинное наслаждение смотреть на страдания промокших, дрожащих на пронизывающем ветру людей. В прошлом, очевидно, записной провинциальный оратор нацистской партии, Шмолка и теперь нуждался в терпеливой и покорной аудитории. Полицейские из «фольксдейче»,[2] одетые в темно-оливковые шинели, специально следили, чтобы мы слушали фронтфюрера не иначе, как с «жадным вниманием». Это было дополнительной пыткой. Как-то один итальянец, продрогнув, поднял воротник и зевнул. Полицейский ударил его в живот кованым сапогом. Слабо охнув, итальянец упал. Товарищи заслонили его, чтобы помешать дальнейшему избиению. Подбежали автоматчики и погнали «мятежников» в барак на расправу.
Шмолка продолжал говорить. Он внушал нам, что мы — солдаты великой военно-строительной армии, которой издавна руководит гений германского генерального штаба Фриц Тодт, что этот «гений» своевременно построил все те стратегические автострады, по которым войска Гитлера прошли на Запад и на Восток, что за срыв, хотя бы в малейшем, планов Тодта виновные будут караться жестоко и беспощадно.
Но как ни стращал нас Шмолка, как ни изнуряла каторжная работа в каменоломнях, каким бы ужасным и безвыходным ни казалось в иные дни наше положение в лагере, из которого «освобождала» лишь черная фура с белым крестом, все-таки я и мои друзья твердо верили в лучшее будущее. Вглядываясь в окутанные туманам горы, заросшие лесом, я часто думал, что так или иначе, а мы убежим на эти зеленые верховины, к партизанам, и примем участие в их борьбе.
Алекса Мусич уже не раз по дороге на карьер указывал мне на недалекую горную вершину на западе, покрытую снизу доверху шапкой густого чернолесья, и с особой значительностью говорил:
— Црни Врх!
Вначале робко и с оглядкой он намекал на то, что у нас остается один лишь добрый путь — туда, на Черный Верх. А привыкнув ко мне, сообщил по секрету, что в лесу у Черного Верха и на хребте Златовопланина стоит партизанская бригада и ждет приказа из верховного штаба, чтобы напасть на Бор. Едва приметная улыбка смягчала сумрачное лицо Алексы, когда он мне рассказывал это.
Как страстно он ненавидел Борский рудник, который на его памяти в сущности никогда не был югославским! Всегда в нем хозяйничали иностранцы. До войны — французы. Наезжали и американцы. Теперь ворвались немцы, Вместо француза директором рудника стал немец доктор Кребс. Хозяева меняются, но рабочим от этого не становится легче. Они работают в штреках рудника, стоя по колена в темно-синей ядовитой воде, дыша отравленным воздухом. У Сречко, сына Алексы, уже через два года посерело лицо, надсадный кашель начал рвать легкие, и он умер. А от сернистого газа, который выбрасывают в воздух печи медеплавильного завода, на многие километры вокруг чахнет растительность и земля отказывается родить. Лишь весной на угрюмых облысевших холмах скудно пробиваются кустики красноватой руты.
— У вас, Николай, в Советском Союзе все, наверное, иначе, да? — допытывался Мусич и, наслушавшись моих рассказов, становился еще доверчивей, откровенней.
Как великую тайну Алекса сообщил мне о том, что он коммунист и что у него есть старый верный друг, горняк Недельке.
С ним он познакомился еще до войны, когда борская медь принадлежала французским промышленникам, и вот при каких обстоятельствах. Однажды крестьяне из окрестных сел, сговорившись с рудокопами, вооружились кольями, охотничьими ружьями и двинулись на рудник. Решили разгромить контору. Мусич и Неделько шли рядом, подбадривая друг друга. Но их горячее желание прогнать с родной земли чужих хозяев не осуществилось. Югославские королевские жандармы, охранявшие собственность иностранной концессии, встретили повстанцев ружейным огнем. Неделько был ранен в ногу, и Алекса привел его к себе в дом в Белареку. С того дня завязалась между ними прочная дружба. Они продолжали встречаться и во время оккупации. Тайные встречи эти оставляли в сердце Алексы ощущение незнакомой ему раньше уверенности в своих силах, и мечта, недавно еще неясная, теперь смело звала к определенной цели. Он стал членом коммунистической организации, возникшей на руднике. Вместе с Неделько и другими товарищами Мусич тайно вредил немцам. Коммунисты были крепко спаяны, хорошо законспирированы. Хотя немцы и понимали, почему так часто портилось оборудование, почему участились аварии на транспорте, но найти виновников не могли, как ни старались. Врагу становилось все труднее вывозить из Бора медь. Тем не менее в ЦК югославской компартии, вероятно, не были удовлетворены работой борских коммунистов. К ним прислали нового руководителя, Блажо Катнича. Однако, несмотря на прекрасные рекомендации, опыт подпольной работы у него оказался, очевидно, небольшой. Вскоре полиции удалось выловить в Боре почти всю партийную группу, а самого Катнича забрало гестапо.