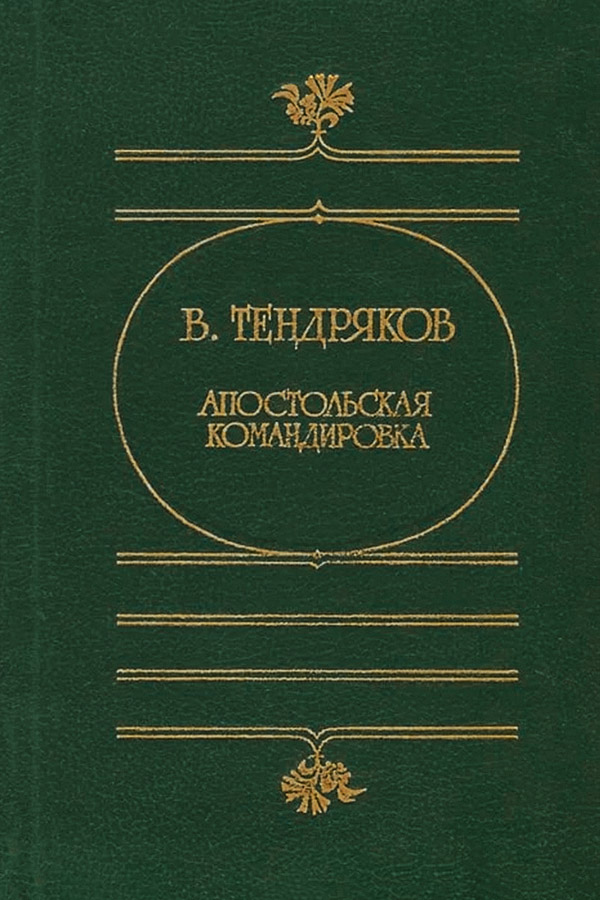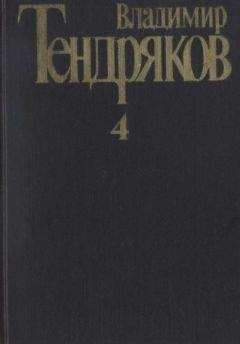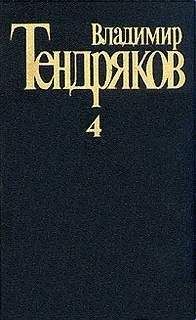class="p1">Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.
— Вечно проказы. Исусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу…
Бабка подошла, взглянула и замолчала: светлые беспокойные глазки средь дубленых морщинок остановились.
Икона лежала на земле, оплетенной прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в легонькие, размазанные по синему небу облачка.
Тяжелая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крестное знамение.
— Свят, свят… Исусе Христе праведный… Варенька, голубушка, взгляни-ко, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы на Мостах…
— Она, пропащая, — подтвердила серьезно и мать.
— Типун тебе на язык — «пропащая». Не пропащая, девонька, а новоявленная.
Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок ее совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.
Родька подозрительно, исподлобья проводил ее взглядом: что-то бабка серьезно схватилась за икону, даже работу бросила, начнет потом зудеть, что, да как, да где нашел, скажешь не по ней — по затылку схватишь.
— Мамка, — проговорил он, — я к Ваське пойду уроки делать.
Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрямилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.
Вечером дома ждали Родьку.
Еще с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетея, согнутая пополам старая Жеребиха. Средь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмешь в обхват, Агния Ручкина. У нее пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На ее сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:
— Ноженьки мои, ноженьки!..
У самых дверей, с краешка, на лавке, умостился робкий старичишка — ночной сторож Степа Казачок: спеченный рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заерзал на лавке.
Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причесаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.
Икона, принесенная Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зернышки, огоньками несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.
— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь черными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами. — Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.
А Родька-ангел, продернув рукавом по мокрому носу, от непонятного внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение, — протиснулся бочком к печке.
— Избранник божий, надежда наша, — раскисла в улыбке Агния Ручкина. — Ох, ноженьки мои, ноженьки…
— Счастье тебе, Варварушка… Сынок-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать. — Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадает… Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.
Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.
— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу, — сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай.
Помявшись, еще ниже наклонив голову, Родька подошел.
— Ну чего?
— Скажи еще раз, милушко, где ты ее достал?
— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута идти, то вправо.
Внимательно притихшие старухи разом завздыхали:
— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная…
— Сам господь, должно, перстом указал… Ноженьки мои, ноженьки… Ох, согрешение!
— Да как же ты на нее наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.
— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал… А там — эта…
— Церковь-то наша без нее сирая и неприкаянная.
— Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, кажную ночь купол пилит ктой-то. Кажную ночь перед петухами…
— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.
Родька со страхом и недоумением слушал вспыхнувший разговор, оглядывался. А в темном углу избы, скупо освещенном крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на черной доске белели глазные яблоки.
Ушли гости. За темным окном в последний раз донеслось плачуще:
— Ноженьки мои, ноженьки…
Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю темную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.
Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и кряхтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп…
Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубахе, распустив по спине волосы, опустилась голыми коленями на холодный пол, завороженно уставилась на неподвижный огонек лампадки.
Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черемухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.
Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бессвязно шептать:
— Господи милостивый… Никола-угодник… В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня…
Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»
И так уже много лет.
Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в черта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:
— Будет ныть-то! Отошла ныне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится…
Самой большой тревогой в ту пору было — придет или не придет Степан на обрыв, к обвалившейся березе. Шла война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза темные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани…» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок, но и она, Варвара, была не из последних — не конопата, не кривобока, бывало, прислонится Степан к высокой груди — замрет, как ребенок. Страшная вера охватывала тогда — никакая сила не оторвет