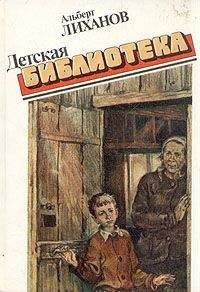первым комсоргом эшелона новобранцев.
Он посмотрел на меня и улыбнулся.
— Идея его, — добавил он. — Ему ее и выполнять.
Женька, наверное, скажет потом, в коридоре, Где-нибудь в уголке: .
— Сам себе на шею заработал. Голова!
— По возвращении, Серегин, будешь отчитываться на бюро, — говорит Борис. Так что считай это поручение важной и ответственной командировкой. Я бы сказал, особой командировкой,
Ну что ж мне оставалось делать? Поскольку с сей минуты я уже переходил на воинское довольствие, я ответил:
— Есть.
ГИМНАСТЕРКА
— Писать будешь? —спрашивает Людка, старушенция моя.
— Буду! — отвечаю я. — Конечно, буду. Что же еще делать в эшелоне? Глазеть в окно да писать письма.
Людка достает из старого коричневого, будто ржавого чемодана, где хранится всякое барахло, мою армейскую форму. Почти побелевшую от многих стирок, от солнца и пота гимнастерку и брюки. Я долго еще ходил в них после того, как демобилизовался. А потом, когда купил, наконец, костюм, Людка выстирала брюки и гимнастерку, выгладила, привинтила все мои военные регалии и сложила в этот ржавый чемодан. На память.
Я тогда улыбался, глядя, как она хлопочет. Врось, говорил я ей, изводи старье на тряпки, кому это надо? Если и потребуется снова форму надевать, так новую выдадут. Людка философски усмехалась тогда мне в ответ. И вот получается, что она как в воду глядела. Все-таки пригодилась моя потом просоленная, солнцем выжженная гимнастерка.
Я натягиваю ее. Значки покалывают сквозь майку своими холодными шпыньками. Снять их, что ли? Что тут у меня? Первый разряд по самбо, слециалист первого класса, ГТО. Нет, оставлю, пожалуй. Пусть уж тогда все останется как есть, Как было. А как все это было? Сейчас, пожалуй, точно и не вспомнишь,
Да, мать хлопотала у печи, выкладывая иа широком блюде пирамиду из румяных сладких пирожков, —мне в дорогу. И зеленый вещмешок, с которым уходил на фронт еще отец, с которым прошел всю войну и вернулся цел и невредим, самому себе на удивленье. Только приклеились к мешку заплаты, грубо пришитые неловкой мужской рукой. Отец звал мешок любовно — «сидором». Это уж потом, в армии, понял я, почему он так звал свой мешок, будто старого друга, приятеля. С отцовским «сидором» и мне пришлось протопать немало в учебных марш-бросках, таскать в нем небогатый паек, подкладывать его под голову где-нибудь на мшанике, когда взводный давал команду на привал. «Сидор» и правда, как верный друг, вместе со мной безропотно переносил все эти марши, ночные тревоги, учебные стрельбы.
Когда я вернулся, на вокзале меня встречали мать и отец. Мама держала в руке батистовый старый платочек и все вытирала глаза. Она сразу бросилась ко мне, едва я выпрыгнул из вагона, Потом, когда она отпустила меня и я шагнул к отцу, он не обнял меня, а чуть повернул спиной, посмотрел на «сидор», хлопнул его жилистой, корявой ладонью, спросил: «Ну как, «сидор»?»—и только тогда, не дожидаясь ответа, облапил меня, аж косточки хрустнули. Сила кузнецкая так из него и перла.
На другой же день отец поднял меня спозаранку. Мать ругалась, что он не дал мне и выспаться-то после службы, а отец только усмехался, поглаживая рукой морщинистые, с глубокими складками щеки, и приговаривал:
— Вот кузню поглядит, тогда пущай дрыхнет!
Я умылся, надел гимнастерку, хотел идти с погонами, но отец взял меня за плечо, аккуратно расстегнул медную пуговку и осторожно снял с меня погоны. Потом он пошел к комоду, там, перед зеркалом, у матери стояла шкатулка со веякими вещами — отцовскими медалями, материнским значком «Отличнику здравоохранения», пуговками, безделушками, пустой бутылочкой из-под французских духов, которые отец привез матери с фронта — трофей! — и которая до сих пор еще пахла чем-то очень приятным, видно, лугами французских Альп. Отец сложил мои погоны в эту шкатулку, и мы пошли с ним на завод.
Отец работал кузнецом, и его цех был для меня не чужим — после школы я отработал здесь целый год. Отцу не терпелось показать мне, как изменился наш цех, пока я служил, и он даже с вечера заказал в отделе кадров на меня пропуск.
Да, цех очень здорово изменился. Стены зеленели приятным на глаз цветом. За три года сменили почти все станки — отец в каждом письме писал мне о реконструкции, но я и подумать не мог, что все так здорово тут перевернули.
— Серафим! — крикнул кто-то сбоку.
У моего отца странное старинное имя — Серафим. А отчество простое — Иванович, дед у меня был Иваном.
— Серафим!—крикнули опять, и я дернул отда за рукав: он работал кузнецом всю жизнь и поэтому был глуховат.
Подошел человек средних лет, отец показал ему на меня и сказал:
— Солдата привел.
Оказалось, что это начальник цеха, и мы тут же пошли к нему в конторку и договорились, что я, не мешкая, выйду завтра же на должность помощника кузнеца, к отцу.
Потом я стоял рядом с отцом, а он сидел перед пультом молота, а прямо напротив нас огромная махина хлопала по огненной болванке, играя ею, расплющивая ее, как восковую.
Потом я два года работал рядом с отцом и оба эти года был цеховым комсоргом. Крутиться приходилось будь здоров — в первую же осень я поступил на заочное, в электротехнический. А потом еще и Людка тут как тут.
Так я с ней и встретился в потрепанной гимнастерочке без погон, в солдатских сапожках и с конспектами по сопромату за медной пряжкой. Встретился на подножке битком набитого трамвая.
— Ничего, девушка! — кричал я ей весело, ухватившись руками за обе поручни и не давая ей упасть. — Со мной не пропадешь!
Девчонка смеялась, и ветер лохматил ее короткие русые волосы, а народ из трамвая, как назло, не вылезал, и мы все ехали, еле удерживаясь на ступеньке.
Потом оказалось, что нам сходить на одной остановке и что — вот совпадение!—мы учимся в одном институте. Только она уже на пятом. Впрочем, если бы я не был в армии, тоже учился бы сейчас на пятом. А школу мы кончили в один год.
Я срочно заказал черный костюм. И сапоги наконец-то сменил на австрийские полуботинки — длинные,