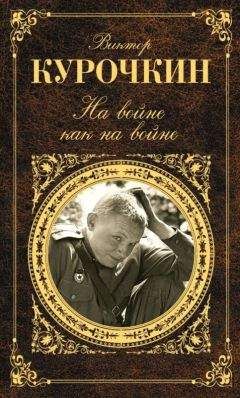— Отстояли? Как же это?
Марья Антоновна стала подробно рассказывать, но Василий Ильич остановил ее:
— Ладно. Поправь под боком постель… Давит что-то.
Овсов выздоравливал. Теперь он все больше и горше думал. До рассвета он лежал с открытыми глазами и беззвучно шептал: «Как жить?.. Как жить?..»
Думы сменялись длинными и странными снами. Один из них запомнился Василию Ильичу… Он видел реку, вода в ней была черная, а по берегам стояли высокие белоствольные березы. Их раскидистые густые кроны заслоняли солнце, а сильные корни, как лапы огромной хищной птицы, крепко цеплялись за каменистый грунт. Василий Ильич, идя по берегу, увидел повисшую над водой березу. Своими искривленными толстыми суками она обхватила два соседних дерева и качалась между ними, купая в воде длинные корни. Обрывистый выступ, на котором стояло дерево, по-видимому, срыла в половодье льдина, но березу утащить не смогла. Береза еще жила, только листья у нее были вялые, как у ошпаренного банного веника. Василий Ильич долго находился под впечатлением этого сна.
Незадолго до выхода из больницы Овсова навестил Масленкин. Василий Ильич в сером фланелевом халате бродил по больничному парку — так называли здесь рощицу с двумя десятками кленов и лип. Василий Ильич присел на скамейку около клумбы, на которой уже отцветала лиловая гвоздика и начинали распускаться желтые георгины. Он не заметил, как подошел Масленкин.
— Наше вашим, — поздоровался Сашок и подсел к Овсову. Одет он был в синий костюм. Пиджак так плотно обтягивал плечи, что Сашок, боясь, как бы он не затрещал и не расползся по швам, сидел прямо, опустив руки, как перед фотографом. Зато брюки были слишком длинны, и чтобы они не волочились, Сашок подвернул их внизу и заколол булавками.
— Эхма! — Сашок снял кепку. — Жарко-то как.
— Погода сухая. С уборкой как? — спросил Василий Ильич.
— Убираем. — Сашок помахал кепкой и повесил ее на сучок, потом вынул из кармана четвертинку. — Завтра Спас Преображенья.
Василий Ильич усмехнулся:
— Кто рад празднику, тот накануне пьян.
— Да нет, не с чего, — вздохнул Сашок. — Да и с какой радости? Сам знаешь — горе у меня. В амбаре ютюсь с ребятишками. А какой дом был! Двух лет не прожил в нем. Ну, да что говорить, давай выпьем.
Василий Ильич сходил в палату за стаканом. Пили по очереди, закусывали луком и холодной говядиной. От водки и жары у Василия Ильича закружилась голова, тело обмякло, и приход Сашка, который и вначале был неприятен, стал невыносимо тягостным. Сашок же, наоборот, был не в меру болтлив. Он поминутно вытирал глаза и дергал Овсова за рукав халата. Говорил он бестолково — все об одном и том же — и совершенно не обижался на угрюмость Овсова.
— Шесть домов в Лукашах как не бывало. Если бы не пожарные машины из района, все бы подчистую выгорело. Твой дом удалось спасти… Вот я тоже барана продал. У Фаддея валенок украли… В валенке-то он деньги хранил, те, что Петр ему еще из города посылал. А у меня как сегодня получилось? Привез я мясо на базар. Не хотят клеймить и мясо продавать не разрешают… Говорят — давай сбой: может, он у тебя, баран-то, подох. А печенку-то с легкими я дома ребятишкам оставил. Не ставят клеймо, хоть плачь. Назад в такую жару мясо везти? Меня инда пот прошиб. Ну, кое-как уладилось… Абарина-то судить за пожар будут.
Внезапно Сашок замолчал и долго тер лоб, словно вспоминал что-то.
— Строиться опять будешь? — спросил Василий Ильич, не потому, что это интересовало его, а так, между прочим.
Сашок мельком взглянул на Овсова и, тяжело упираясь ладонями в колени, проговорил:
— Разговоры в Лукашах, Василий Ильич, ходят: уезжать ты собираешься и дом продашь.
Овсов вздрогнул.
— Я давно хотел поговорить с тобой, — продолжал Сашок, не спуская глаз со своих парусиновых башмаков. — Не продал бы ты мне дом в рассрочку или пустил бы пожить, пока я обстроюсь?
Василий Ильич ответил не сразу и наконец, собравшись с мыслями и стараясь казаться веселым, сказал:
— Ну и люди. Уже дом покупают. Кто же эти слухи распускает?
— Марья Антоновна говорила. Сам слышал.
— Пока я хозяин дома. И продавать его не собираюсь, — резко ответил Василий Ильич.
Сашок встал и, виновато улыбаясь, протянул руку.
— За просьбу извини. Не по воле, а по нужде пришел.
Разговор с Сашком задел Василия Ильича и одновременно укрепил его решение. Только было неприятно, что в Лукашах про него много болтают и что жена не скрывает их планов.
«Незаметно, тихо нужно сделать это, — рассуждал Овсов и в то же время был доволен, что нашел выход из трудного положения. — Буду ежегодно навещать Лукаши и жить лето».
В конце августа Василия Ильича выписали из больницы. Чтоб не встречаться с колхозниками, в деревню он подгадал прийти в сумерки. Марья Антоновна разбирала кровать, когда он постучался.
— Здрасте, явился наконец, — протянула она, — а я собиралась к тебе завтра с утра.
Василий Ильич умылся, сел за стол. Марья Антоновна поставила перед ним стакан и крынку молока. Овсов молча отрезал ломоть хлеба и, смахнув со стола крошки, сказал:
— Вот что, Маша, я думаю — надо собираться.
Марья Антоновна, скрывая улыбку, села рядом.
— Мне что? Я хоть сегодня.
— Ты что на меня так внимательно смотришь — не узнаешь?
Марья Антоновна засмеялась.
— Теперь узнаю. А вот когда только приехали сюда, не узнавала, — и, помолчав, как бы между прочим, она добавила: — Я и дом продала.
Василию Ильичу показалось, что он ослышался.
— Ты о чем это?
— Вот полюбуйся. Мы уже и договор с Михаилом Кожиным написали, — и Марья Антоновна положила перед мужем лист бумаги, исписанный прямым круглым почерком. Положила и рукой прихлопнула. — Ты радуйся, что у тебя такая жена. Все удивляются: дом-то половину того не стоит, что я выговорила.
Василий Ильич схватил бумагу.
— «Выговорила», «выговорила»! А этого не хотела? — и, сжав кулаки, он пошел на Марью Антоновну. — Кто хозяин дома, а?
Она встретила его, скрестив на груди руки.
— И я!
Овсов смял и бросил договор на пол.
Одно дело отказаться от мысли жить здесь, но порвать навсегда с деревней?.. Василию Ильичу стало жутко.
Марья Антоновна подняла бумагу, разгладила ее на коленке и, аккуратно свернув, положила в карман кофты. Она слишком хорошо знала своего мужа.
Так оно и получилось. Через день Василий Ильич с Михаилом поехали в районный поселок к нотариусу — заверить договор купли-продажи — и вернулись только к вечеру. Овсов был пьян и едва, с помощью Михаила, переставлял ноги. Увидев Марью Антоновну, он забормотал:
— Продал дом, Маша. Продал, конец всему. А ну, пусти меня! — неожиданно закричал он, оттолкнув Михаила. — Ты думаешь, я от вина пьян? Эх, вы! Разве я дом продал? Я себя продал! Свой род овсовский.
Марья Антоновна, поджав губы, брезгливо смотрела на мужа. А рядом стоял Михаил и, почесывая затылок, извинялся:
— Смочили малость. Дело-то какое. Ведь избу купил. — Он старался казаться огорченным, но никак не получалось. По его скуластому лицу расползалась улыбка.
В среду Овсовы распрощались с Лукашами. Их повезли к станции на попутной машине. Провожал соседа сам Матвей Кожин. Вещей набралось — гора. Здесь были узлы, корзинки, два бочонка — с огурцами и с грибами. Когда к дому подогнали машину и стали выносить вещи, Марья Антоновна, зорко следя за погрузкой, жаловалась Кожину, что еще что-то хотела купить, да совсем забыла.
Матвей ухмыльнулся.
— Чего же еще надо? Вот разве поленницу дров. А что, Марья, не захватишь ли десяток плашек? Березовые, сухие, сгодятся.
— Не мешало бы, Матвей Савельич, — серьезно ответила Овсова.
Приехав на станцию, остановились около крошечного привокзального скверика с десятком кустов сирени и одинокой скамейкой.
Часть вещей оставили с Марьей Антоновной в скверике, остальные сдали в багаж. Заняв очередь за билетами, мужчины вышли на перрон. Здесь царили жара и скука. Солнце светило отвесно, упираясь горячими лучами в тесовые крыши вокзала, с которых, как шелуха, осыпалась краска. У входа в зал ожидания, на каменных ступенях, пристроилась цыганка. На груди у нее в платке висел ребенок. Цыганка ела булку, запивая ее квасом из бутылки.
В стороне, под жидкой тенью молодого дубка, обхватив руками портфель и шляпу, дремал худощавый человек. Около него вертелся цыганенок. Он то ходил на носках, то приседал на корточки, внимательно разглядывая лицо спящего. Человек неожиданно чихнул, цыганенок отскочил в сторону и затараторил:
— Дядя, дай денежку, дай! На животе спляшу.
Мужчина еще раз чихнул. Цыганенок подпрыгнул и заголосил:
В конце перрона помещался буфет. Кожин с Овсовым заглянули в приоткрытую дверь, подумали и молча вошли. Буфетчица, зажав между коленями насос, с грохотом накачала две кружки пива.