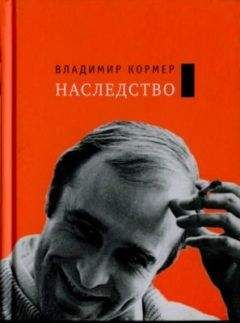В таком духе и должна была поговорить с ним Катерина, потому что сама Анна была буквально взбешена его планами и, хоть и сдерживалась тогда, но не могла ручаться за себя в дальнейшем, при обсуждении подробностей, и боялась испортить отношения с отцом окончательно.
Но Николай Владимирович уклонился, однако, от какого бы то ни было разбирательства. Екатерина была права: он воистину сильно изменился за последние два-три года. При этом причина, конечно, заключалась не в том, что здоровье его ухудшилось и мучительный нервный спад, начавшийся у него в конце войны, прошел, причина, без сомнения, была не здесь, ибо перемена его была такого свойства, что казалось, что будь его здоровье плохим, будь он хуже прежнего истощен, обессилен, он еще скорее сдвинулся бы в эту сторону. С ним случилось что-то из области чудесного, что-то такое, чего он и сам не мог определить вполне точно и во всем объеме: что же это? — но на частных примерах, на отношениях с семейством особенно это было заметно очень хорошо.
Семья неожиданно перестала, по крайней мере в той степени, что раньше, занимать его, более того — поглощать целиком. Как говорится, идея семьи словно бы изжила себя в его душе, и он внезапно ощутил себя от них освобожденным, свободным. Это было новое, странное и даже не совсем приятное поначалу чувство. Николай Владимирович не мог сказать, что так уж рад ему. Скорее наоборот: когда это одиночество, эта отчужденность, к которым он в течение всей жизни так безнадежно стремился, в конце концов явились, они показались ему не столько обесцененными вообще, сколько обесценивающими почему-то его самого. Не потому, что смысл прошлой жизни его снова становился чрез это под подозрение — это было б еще полбеды: он сам ставил его невысоко — но снова подвергались сомнению самые основы его личности, точь-в-точь как одиннадцать лет назад, после письма сына. От того кризиса, растянувшегося на одиннадцать лет, у Николая Владимировича остались весьма дурные воспоминания, вдобавок из-за того, что все это было так или иначе связано с той печальной любовью и судьбой. Теперь, когда он говорил себе: «Наконец-то я от них освободился!» и торжествовал свою независимость, — то выходило, что вся эта его любовь к ним, все эти беспокойства, все терзания не нужны были ему, он лишь играл по сути дела какую-то несвойственную ему роль, надевал чью-то чужую личину; тогда как ему нужно было всегда что-то совсем иное, на что он не решился единственно из трусости, по слабости. Это было слишком сильно, — он знал, что это опять соответствует истине только в некоторой доле, но невольно соскальзывал в эту крайность. В ней, если только он осмеливался остаться там, и еще немного за нею разверзался у него перед глазами жуткий провал, бескрайняя бездна, бездна свободы, манящая, но равно и устрашающая и для самого храброго, решившего не то что измерить ее шагами, но исследить хотя бы только взглядом.
К счастью для него, смущение его перед нею длилось недолго. Не потому, что привык к ней — к ней нельзя привыкнуть, — но потому, что охранительный разум у ее края в самый последний момент всегда приходит на помощь, мигом переустраивая и переиначивая это бесконечное пространство, спуская по крутым откосам деревянные шаткие лесенки, перекидывая навесные мостки и канатные дороги, сколачивая временные досчатые перегородки, а где можно, где удается, возводя и кирпичную стенку. Соответственно этому побуждению независимого рассудка, сохранявшего за обладателем его свободу, придавая ей значение необходимости (не это ли и обесценивало приобретение?), Николай Владимирович скоро догадался, что он все же просто устал от них, что вечные страхи, волнения, вечная обремененность так измучили его и приелись ему, что чувство реального облегчения должно вскоре затмить все остальные чувства. (Почему он и думал, что, чувствуй он себя хуже, он еще быстрей стремился бы отдалиться от них.) Они все, без исключения, могли прожить без него, и, главное, им не было б хуже ни без него, ни друг без друга, так как всегда у них то взаимное участие, которое они принимали друг в друге, к сожалению, оборачивалось обязательно взаимным деспотизмом. Они все (и он, конечно, в первую очередь) были плохо воспитаны, воспитаны в любви, может статься, но и в неуважении, поэтому их желание принести другому как можно больше добра, блага, уберечь другого от какой-то опасности оказывалось слишком часто нарушением каких-то глубочайших, суверенных прав. Понятно, что сказать им: «Живите теперь сами», — было жестоко, но, с другой стороны, в этом была и правда, поскольку фактически они все и так жили сами по себе, меж ними и так уж были разорваны какие-то внутренние связи, и они лишь боялись себе в этом признаться. Но тут важно было осознать, что и с самого начала эти связи, эта подчеркнутая зависимость и не нужны были вовсе, каждому из них мешая. «У нас получилось так, что вы, подрастая, усваивали себе незаметно какие-то права, на меня, на мать, друг на друга, — пытался втолковать Николай Владимирович Анне, но она не поняла его. — Теперь вам с Катериной представляется, что вы обладаете какими-то особыми правами над своими детьми… Это верно, вы, несомненно, любите их, вы привязаны к ним, но я заклинаю вас, будьте осторожнее… И еще одно…»
— Да, папа, — как всегда в таких случаях, преувеличенно внимательно и с каким-то подобострастием откликнулась Анна. — Я слушаю тебя.
Но он не стал продолжать. Он хотел добавить, что теперь-то он, слава богу, хоть и поздновато, но может отойти от них, его долг, пусть давний, пусть по его же вине, теперь выплачен и можно быть свободным. Но что-то удержало его: он подумал, что все-таки каждое слово здесь потребует обстоятельных разъяснений, а понять с полунамека его вовсе не обидную мысль она не захочет, повернув в худшую сторону. Перемена, происшедшая в нем, сделала также его и мудрее, и он постиг вдруг, что нужно вообще поменьше объясняться, ни в коем разе не пускаться в оправдания и гордо даже и отрешенно нести открывшееся ему.
Анна была поражена. Печать обиды не сходила с ее лица. Но и Николай Владимирович был на нее зол за то, что она так упрямо не хочет понять его, поверить, что он все-таки устал. И то же самое Катерина. Его возмущало больше всего то, что наружно ни для кого, ни для каких знакомых или, тем паче, соседей, его перемена никак не проявлялась — ни в поведении, ни в домашних делах, ни в чем; и если он собрался ехать сейчас куда-то, то опять же об этом не знал никто, и отсутствие его ничего не стоило оправдать несложной какой-нибудь выдумкой. Он стал лишь несколько ироничней, иногда острее в шутках, которые отпускал на их счет, — впрочем, весьма невинных, — он меньше читал, больше размышлял, вот и все. Он даже не стал продолжать своего «мемуара» или записок, как было собрался вначале, потому что это чрезмерно раздражало их любопытство, а то, что он отказывался рассказать, о чем он пишет, оскорбляло их. Так что по всему перерождение его было сугубо внутреннее, по объективированным своим результатам как нельзя более скромным.
Отчасти для того, чтоб это потаенное ощущение свободы и выразилось как-то вовне, он и решился на эту затею с поездкой. Он был действительно неравнодушен к Галине Васильевне, ему действительно нравился ее сын, которого он к тому же давно не видел, ему в самом деле хотелось ветретить Новый год не в Москве, а где-нибудь в деревне или глухом поселке, среди леса, хотелось и отдохнуть несколько дней, но еще больше и больше всего — он не скрывал от себя этого — его радовала мысль встретить праздник без них, вдали от них, чтобы совсем уж ясно показать и им, и себе самому, что отныне в жизни каждого из них появилось новое свойство. Он согласен был терпеть и оскорбленность Анны, и насмешливое недоумение Катерины, но лишь реакция Татьяны Михайловны беспокоила его серьезно. Мать тоже, в сущности, устала от этих вечных семейных тягот, тоже хотела высвобождения и даже по-своему достигла его, но только у нее оно проступило совсем незаметно: с Анной у нее никогда не было хорошего согласия; любовь к Катерине перенесена была на девочку, и Катерина, радуясь, остального замечать не хотела; зять (Катеринин муж) был человек хоть и неплохой, но совершенно им чужой — так что перемену в Татьяне Михайловне замечал только он сам, страдая порою от образовавшейся обоюдной невозможности исправить что-либо. Состояние Татьяны Михайловны, чудилось ему, было нехорошим признаком, оно было иного рода, нежели у него; эти две линии лишь пересеклись в одной точке и вскоре должны были разойтись. Собираясь на Новый год покинуть ее, Николай Владимирович все-таки тревожился поэтому, и если бы дочери сказали, что будут встречать праздник где-то вне дома, он наверняка бы остался. Они, однако, решили на этот раз встречать именно дома, всей семьей, полагая, что, разумеется, раз решено всей семьей, то и он будет тоже. Но эта-то претензия и разозлила его: сколько раз они уходили под праздник, бросая их с матерью одних, — теперь же им взбрело в голову побыть дома, и, значит, он обязан присутствовать!