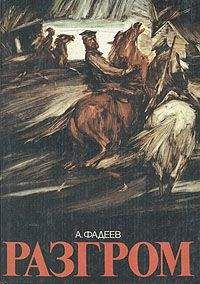На обратном пути он, поравнявшись с Морозкой, спросил:
— Что-то, я смотрю, от жены ты бегаешь, чего вы там не поделили?
Морозка, смущенно и сердито посмотрев на его сухое, желчное лицо, сказал:
— Чего не поделили? Делить нам нечего. Бросил я ее…
— Бро-осил!.. — Ефимка несколько минут молча и хмуро глядел куда-то вбок, точно раздумывая, подходит ли теперь это слово, если в прежних отношениях между Морозкой и Варей тоже не было прочной семейной связи.
— Ну что ж — и так бывает, — сказал он наконец, — тоись, я говорю, как кому повезет… Но-о, кобылка!.. — Он жестко подхлестнул лошадку, и Морозка, проводив глазами его суконную рубаху, видел, как он докладывал что-то Левинсону, потом поехал рядом с ним.
«Эх, жистянка… н-ну!..» — подумал Морозка с каким-то, из последних сил, отчаянием, и ему стало очень грустно оттого, что сам он будто скован чем-то и не может так же беспечно разъезжать по цепи или разговаривать с соседом. «Хорошо им — едет себе, и никаких, — думал он с завистью. — А с чего им тужить на самом деле? Хотя б Левинсону?.. Человек во власти, всякий к нему с почетом — что хочу, то и делаю… Можно жить». И, не предполагая, что у Левинсона болит простуженный бок, что Левинсон несет в себе ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена и раньше всех может расстаться с телом, — Морозка думал о том, какие все-таки живут на свете здоровые, спокойные и обеспеченные люди и как ему самому решительно не везет в жизни.
Все те запутанные, надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя и кудрявые косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой, те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Мечиком и одинокая бесприютная ворона сидела на покривившемся стогу, — все эти мысли приобрели теперь небывалую мучительную яркость и остроту. Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман. Он не сомневался больше в том, что вся его жизнь от самых пеленок, вся эта тяжелая бессмысленная гульба и работа, кровь и пот, которые он пролил, и даже все его «беспечное» озорство — это не радость, нет, а беспросветный каторжный труд, которого никто не оценил и не оценит.
Он с неведомой ему — грустной, усталой, почти старческой — злобой думал о том, что ему уже двадцать семь лет, и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего хорошего, и он, может быть, очень скоро погибнет от пули, не нужный никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел. Морозке казалось теперь, что он всю жизнь всеми силами старался попасть на ту, казавшуюся ему прямой, ясной и правильной, дорогу, по которой шли такие люди, как Левинсон, Бакланов, Дубов (и даже Ефимка, казалось, ехал теперь по той же дороге), но кто-то упорно мешал ему в этом. И так как он никогда не мог подумать, что этот враг сидит в нем самом, ему особенно приятно и горько было думать о том, что он страдает из-за подлости людей — таких, как Мечик, в первую голову.
После обеда, когда он поил в ключе жеребца, к нему с таинственным видом подошел тот самый бойкий кудрявый парень, который когда-то украл у него жестяную кружку.
— Что я скажу тебе, а что я тебе скажу… — забормотал он мигающей скороговоркой. — Вот, язви ее в копыта, в копыта, право слово, Варьку-то, Варьку… У меня, брат, ню-ух по этой части!..
— Что?.. По какой части? — грубо спросил Морозка, подняв голову.
— Насчет баб, очень я баб понимаю, — пояснил парень, немного смутившись. — Хоть и нет еще ничего, нет ничего, да меня, брат, не проведешь — нет брат, не проведешь… Глазами она за им так и ширяет, так и ширяет.
— А он что? — возбужденно краснея, спросил Морозка, поняв, что речь идет о Мечике, и забыв, что он должен делать вид, что будто ничего не знает.
— А что ж он? Он ничего… — сказал парень каким-то неискренним, оглядывающимся голосом, точно все, о чем он говорил, не важно было по существу, а понадобилось ему только для того, чтобы загладить перед Морозкой старые свои грехи.
— Ну и хрен с ними! Мое какое дело? — Морозка фыркнул. — Может, и ты с ней спал — я почем знаю, — добавил он с презрением и обидой.
— Вот тебе!.. Да я ведь…
— Пошел, пошел к федькиной матери!.. — внезапно раздражаясь, закричал Морозка. — На кой ты загнулся с нюхом своим. Пошел, н-ну!.. — И он вдруг с силой ударил парня ногой по заду.
Мишка, испуганный его резким движением, рванулся в сторону и, попав подогнутыми задними ногами в воду, так и застыл, наставив на людей уши.
— Ах ты с-су… — выдохнул парень с изумлением и гневом и, не договорив, кинулся на Морозку.
Они сцепились, как барсуки. Мишка, круто повернув, потрусил от них мелкой рысцой.
— Я тебе, драному в стос, покажу с нюхом с твоим!.. Я тебе… — рычал Морозка, сбоку суя кулаком и злясь, что парень не отпускает его, поэтому нельзя хорошо размахнуться.
— Ну, ребятишки! — сказал над ними чей-то удивленный голос. — Вон они что делают…
Две больших узловатых руки спокойно вклинились между ними и, схватив обоих за воротники, растащили в разные стороны. Оба, не поняв, в чем дело, снова ринулись друг к другу, но на этот раз получили по такому увесистому пинку, что Морозка, отлетев, ударился спиной о дерево, а парень, зацепившись за валежину и помахав руками, грузно осел в воду.
— Давай руку, подсоблю… — без насмешки сказал Гончаренко. — Удумали тоже!
— Да как же он, стерва… гадов таких… убивать мало!.. — кричал Морозка, порываясь к мокрому и оглупевшему парню. Тот, держась одной рукой за Гончаренку и обращаясь исключительно к нему, другой бил себя в грудь, голова его тряслась.
— Нет, ты скажи, нет, ты скажи, — повторял он, чуть не плача, — значит, всякому так: захотел — и в зад, захотел — и в зад?.. — Заметив, что к месту происшествия стекается народ, он пронзительно закричал: — Рази виноват, виноват кто, что жена, жена у его…
Гончаренко, опасаясь скандала, а еще больше за Морозкину судьбу (если о скандале узнает Левинсон), бросил визжавшего парня и, схватив Морозку за руку, потащил его за собой.
— Идем, идем, — строго говорил он упиравшемуся Морозке. — Вот вышибут тебя, сукиного сына…
Морозка, поняв наконец, что этот сильный и строгий человек действительно сочувствует ему, перестал сопротивляться.
— Что, что там случилось? — спросил бежавший им навстречу голубоглазый немец из взвода Метелицы.
— Медведя поймали, — спокойно сказал Гончаренко.
— Медве-едя?.. — Немец выпучил глаза и, постояв немного, вдруг ринулся с такой прытью, как будто хотел поймать еще одного медведя.
Морозка впервые с любопытством посмотрел на Гончаренку и улыбнулся.
— Здоровый ты, холера, — сказал он, почувствовав какое-то удовлетворение от того, что Гончаренко здоровый.
— За что ты его? — спросил подрывник.
— Да как же… гадов таких!.. — снова заволновался Морозка. — Да его б надо…
— Ну-ну, — успокоительно перебил Гончаренко, — за дело, значит?.. Ну-ну…
— Собира-айсь! — кричал где-то Бакланов звонким, срывающимся с мужского на мальчишеский голосом.
В это время из кустов высунулась мохнатая Мишкина голова. Мишка посмотрел на людей умным зелено-карим глазом и тихо заржал.
— Эх!.. — вырвалось у Морозки.
— Ладный конек…
— Жизни не жалко! — Морозка восторженно хлопнул жеребца по шее.
— Жизнью ты лучше не кидайся — сгодится… — Гончаренко чуть улыбнулся в темную курчавую бороду. — Мне еще коня поить, гуляй себе. — И он крепким, размашистым шагом пошел к своей лошади.
Морозка снова с любопытством проводил его глазами, раздумывая, почему он раньше не обращал внимания на такого удивительного человека.
Потом, когда становились взводы, он, сам того не замечая, пристроился рядом с Гончаренкой и уж всю дорогу до Хаунихедзы не расставался с ним.
Варя, Сташинский и Харченко, зачисленные во взвод Куб-рака, ехали почти в самом хвосте. На поворотах хребта виден был весь отряд, растянувшийся длинной цепочкой: впереди, согнувшись, ехал Левинсон; за ним, бессознательно перенимая его позу, Бакланов.
Где-то за спиной Варя все время чувствовала Мечика, и обида на его вчерашнее поведение шевелилась в ней, заслоняя то большое и теплое чувство, которое она постоянно испытывала к нему.
Со времени ухода Мечика из госпиталя она ни на минуту не забывала о его существовании и жила одной мыслью о новой их встрече. С этим днем у нее связаны были самые задушевные, затаенные — о которых никому нельзя рассказывать, — но вместе с тем такие живые, земные, почти осязаемые мечты. Она представляла себе, как он появится на опушке — в шагреневой рубахе, красивый, стройный, белокурый, немножко робеющий, — она чувствовала на себе его дыхание, мягкие курчавые волосы под рукой, слышала его нежный, влюбленный говор. Она старалась не вспоминать о недоразумениях с ним, ей казалось почему-то, что такое не может больше повториться. Одним словом, она представляла себе будущие отношения к Мечику такими, какими они никогда не были, но какими они были бы ей приятны, и старалась не думать о том, что действительно могло случиться, но доставило бы ей огорчение.