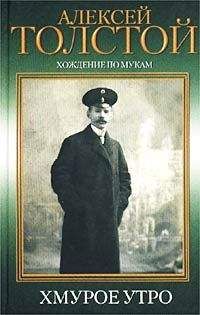ее не хочет, живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками. А Даша вся до последней капельки наполнена им, вся в нем.
Даша теперь нарочно гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое — гимназическое — платье, привезенное еще из Самары, с тоской упрямо зубрила римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко. Даша просто трусила.
В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже потух и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась с островов пешком.
Дома она сказала, что идет на курсы, а вместо этого проехала в трамвайчике до Елагина моста и бродила весь вечер по голым аллеям, переходила мостики, глядела на воду, на лиловые сучья, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие за мшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чем и не торопилась.
Было спокойно на душе, и всю ее, словно до костей, пропитал весенний солоноватый воздух взморья. Ноги устали, но не хотелось возвращаться домой. По широкому проспекту Каменноостровского крупной рысью катили коляски, проносились длинные автомобили, с шутками и смехом двигались кучки гуляющих. Даша свернула в боковую улочку.
Здесь было совсем тихо и пустынно. Зеленело небо над крышами. Из каждого дома, из-за опущенных занавесей, раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот — знакомый-знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина поет скрипка.
И у Даши, насквозь пронизанной звуками, тоже все пело и все тосковало. Казалось, тело стало легким и чистым.
Она свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась и, подойдя к парадной двери, где над медной львиной головой была прибита визитная карточка — «А. Бессонов», сильно позвонила.
Швейцар в ресторане «Вена», снимая с Бессонова пальто, сказал многозначительно:
— Алексей Алексеевич, вас дожидаются.
— Кто?
— Особа женского пола.
— Кто именно?
— Нам неизвестная.
Бессонов, глядя пустыми глазами поверх голов, прошел в дальний угол переполненного ресторанного зала. Лоскуткин — метрдотель, повиснув у него за плечом седыми бакенбардами, сообщил о необыкновенном бараньем седле.
— Есть не хочу, — сказал Бессонов, — дадите белого вина, моего.
Он сидел строго и прямо, положив руки на скатерть. В этот час, в этом месте, как обычно, нашло на него привычное состояние мрачного вдохновения. Все впечатления дня сплелись в стройную и осмысленную форму, и в нем, в глубине, волнуемой завыванием румынских скрипок, запахами женских духов, духотой людного зала, — возникала тень этой вошедшей извне формы, и эта тень была — вдохновение. Он чувствовал, что каким-то внутренним, слепым осязанием постигает таинственный смысл вещей и слов.
Бессонов поднимал стакан и пил вино, не разжимая зубов. Сердце медленно билось. Было невыразимо приятно чувствовать всего себя, пронизанного звуками и голосами.
Напротив, у столика под зеркалом, ужинали Сапожков, Антошка Арнольдов и Елизавета Киевна. Она вчера написала Бессонову длинное письмо, назначив здесь свидание, и сейчас сидела красная и взволнованная. На ней было платье из полосатой материи, черной с желтым, и такой же бант в волосах. Когда вошел Бессонов, ей стало душно.
— Будьте осторожны, — прошептал ей Арнольдов и показал сразу все свои гнилые и золотые зубы, — он бросил актрису, сейчас без женщины и опасен, как тигр.
Елизавета Киевна засмеялась, тряхнула полосатым бантом и пошла между столиками к Бессонову. На нее оглядывались, усмехались.
За последнее время жизнь Елизаветы Киевны складывалась совсем уныло, — день за днем без дела, без надежды на лучшее, — словом — тоска, Телегин явно невзлюбил ее, обращался вежливо, но разговоров и встреч наедине избегал. Она же с отчаянием чувствовала, что он-то именно ей и нужен. Когда в прихожей раздавался его голос, Елизавета Киевна пронзительно глядела на дверь. Он шел по коридору, как всегда, на цыпочках. Она ждала, сердце останавливалось, дверь расплывалась в глазах, но он опять проходил мимо. Хоть бы постучал, попросил спичек.
На днях, назло Жирову, с кошачьей осторожностью ругавшему все на свете, она купила книгу Бессонова, разрезала ее щипцами для волос, прочла несколько раз подряд, залила кофеем, смяла в постели и, наконец, за обедом объявила, что он гений… Телегинские жильцы возмутились. Сапожков назвал Бессонова грибком на разлагающемся теле буржуазии. У Жирова вздулась на лбу жила. Художник Валет разбил тарелку. Один Телегин остался безучастным. Тогда у нее произошел так называемый «момент самопровокации», она захохотала, ушла к себе, написала Бессонову восторженное, нелепое письмо с требованием свидания, вернулась в столовую и молча бросила письмо на стол. Жильцы прочли его вслух и долго совещались. Телегин сказал:
— Очень смело написано.
Тогда Елизавета Киевна отдала письмо кухарке, чтобы немедленно опустить в ящик, и почувствовала, что летит в пропасть.
Сейчас, подойдя к Бессонову, Елизавета Киевна проговорила бойко:
— Я вам писала. Вы пришли. Спасибо.
И сейчас же села напротив него, боком к столу, — нога на ногу, локоть на скатерть, — подперла подбородок и стала глядеть на Алексея Алексеевича нарисованными глазами. Он молчал. Лоскуткин подал второй стакан и налил вина Елизавете Киевне. Она сказала:
— Вы спросите, конечно, зачем я вас хотела видеть?
— Нет, этого я спрашивать не стану. Пейте вино.
— Вы правы, мне нечего рассказывать. Вы живете, Бессонов, а я нет. Мне просто — скучно.
— Чем вы занимаетесь?
— Ничем. — Она засмеялась и сейчас же залилась краской. — Сделаться кокоткой — скучно. Ничего не делаю. Я жду, когда затрубят трубы, и — зарево… Вам странно?
— Кто вы такая?
Она не ответила, опустила голову и еще гуще залилась краской.
— Я — химера, — прошептала она.
Бессонов криво усмехнулся. «Дура, вот дура», — подумал он. Но у нее был такой милый девичий пробор в русых волосах, сильно открытые полные плечи ее казались такими непорочными, что Бессонов усмехнулся еще раз — добрее, вытянул стакан вина сквозь зубы, и вдруг ему захотелось напустить на эту простодушную девушку черного дыма своей фантазии. Он заговорил, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия. Он чувствует это по тайным и зловещим знакам:
— Вы видели, — по городу расклеен плакат: хохочущий дьявол летит на автомобильной шине вниз по гигантской лестнице… Вы понимаете, что это означает?..
Елизавета Киевна глядела в ледяные его глаза, на женственный рот, на поднятые тонкие брови и на то, как слегка дрожали его пальцы, державшие стакан, и как он пил, — жаждая, медленно. Голова ее упоительно кружилась. Издали Сапожков начал делать ей знаки. Внезапно Бессонов обернулся и спросил, нахмурясь:
— Кто