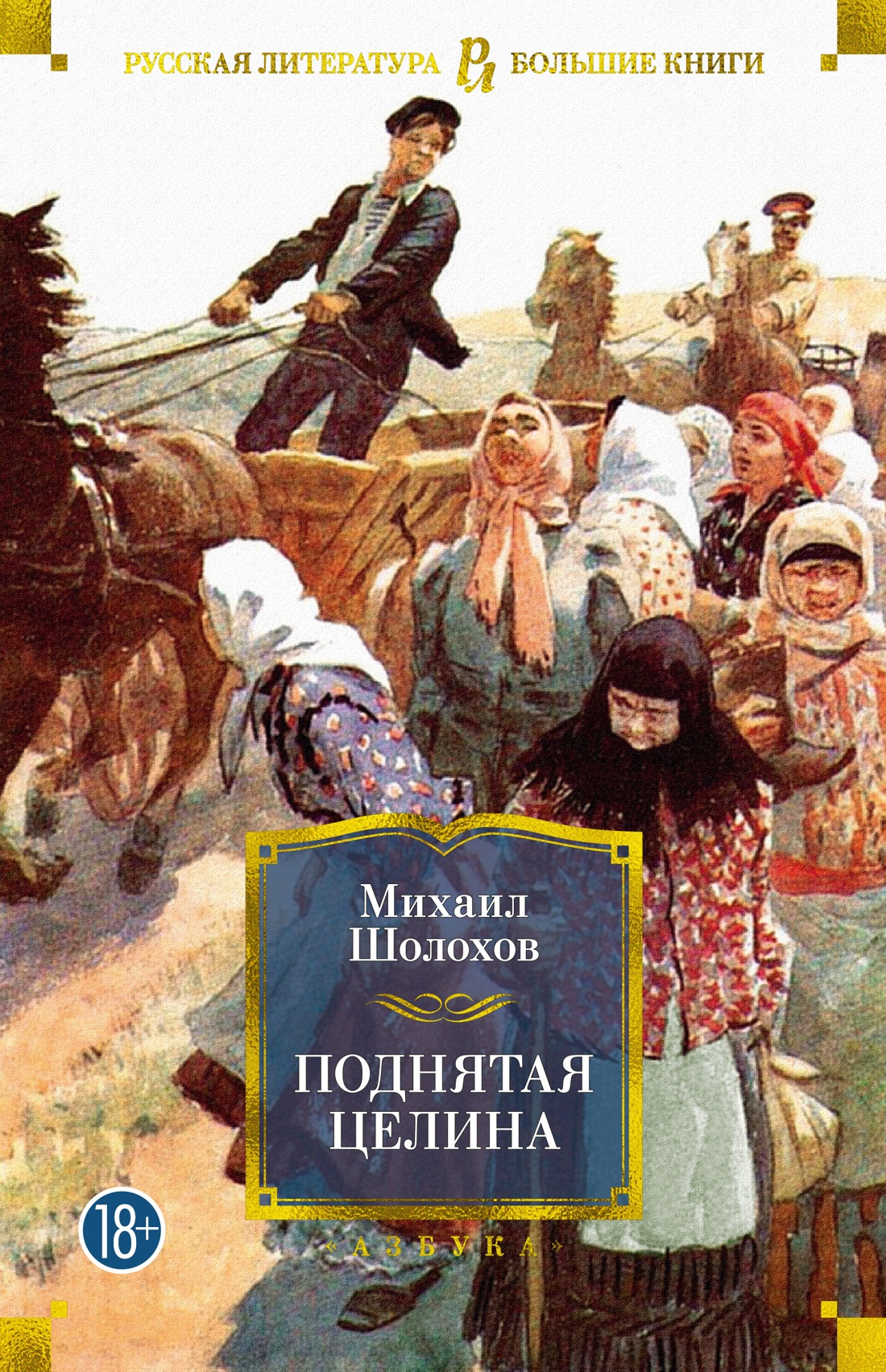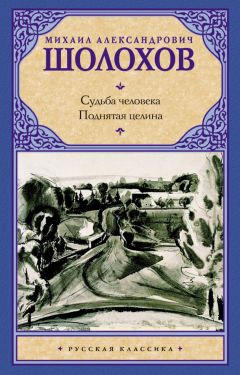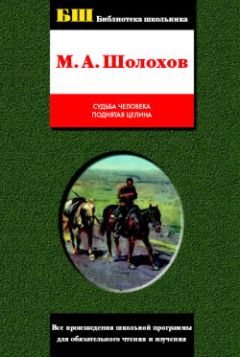во сне, стон Давыдова. Врач вышел на кухню, вытирая полотенцем руки, с подобранными рукавами, бледный, но внешне спокойный, на молчаливый вопрос друзей Давыдова ответил:
— Безнадежен. Моя помощь не требуется. Но удивительно живуч! Не вздумайте его переносить с места, где лежит, и вообще трогать его нельзя. Если найдется в хуторе лед… впрочем, не надо. Но около раненого должен кто-то находиться безотлучно.
Следом за ним из горницы появились Размётнов и Майданников. Губы у Размётнова тряслись, потерянный взгляд бродил по кухне, не видя беспорядочно толпившихся хуторян. Майданников шел со склоненной головой, и страшно резко обозначались на висках его вздувшиеся вены, а две глубокие поперечные морщины повыше переносья краснели, как шрамы. Все, за исключением Майданникова, толпою вышли на крыльцо, разбрелись по двору в разные стороны. Размётнов стоял, навалившись грудью на калитку, свесив голову, и только крутые волны шевелили на его спине лопатки; старик Шалый, подойдя к плетню, в слепом, безрассудном бешенстве раскачивал покосившийся дубовый стоян; Демка Ушаков, почти вплотную прижавшись к стене амбара, как провинившийся школьник, ковырял ногтем обмытую дождями глину штукатурки и не вытирал катившихся по щекам слез. Каждый из них по-своему переживал потерю друга, но было общим свалившееся на всех огромное мужское горе…
Давыдов умер ночью. Перед смертью к нему вернулось сознание. Коротко взглянув на сидевшего у изголовья деда Щукаря, задыхаясь, он проговорил:
— Чего же ты плачешь, старик? — но тут кровавая пена, пузырясь, хлынула из его рта, и, только сделав несколько судорожных глотательных движений, привалившись белой щекой к подушке, он еле смог закончить фразу: — Не надо… — и даже попытался улыбнуться.
А потом тяжело, с протяжным стоном выпрямился и затих…
…Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака… Вот и все!
* * *
Прошло два месяца. Так же плыли над Гремячим Логом белые, теперь уже по-осеннему сбитые облака в высоком небе, выцветшем за жаркое лето, но уже червленой позолотой покрылись листья тополей над гремяченской речкой, прозрачней и студеней стала в ней вода, а на могилах Давыдова и Нагульнова, похороненных на хуторской площади, недалеко от школы, появилась чахлая, взлелеянная скупым осенним солнцем, бледно-зеленая мурава. И даже какой-то безвестный степной цветок, прижавшись к штакетнику ограды, запоздало пытался утвердить свою жалкую жизнь. Зато три стебля подсолнушка, выросшие после августовских дождей неподалеку от могил, сумели подняться в две четверти ростом и уже слегка покачивались, когда над площадью дул низом ветер.
Много воды утекло в гремяченской речке за два месяца. Многое изменилось в хуторе. Похоронив своих друзей, заметно сдал и неузнаваемо изменился дед Щукарь: он стал нелюдим, неразговорчив, еще более, чем прежде, слезлив… После похорон пролежал дома, не вставая с кровати, четверо суток, а когда поднялся — старуха заметила, не скрывая своего страха, что у него слегка перекосило рот и как бы повело на сторону всю левую половину лица.
— Да что же это с тобой подеялось?! — в испуге воскликнула старуха, всплеснув руками.
Немного косноязычно, но спокойно дед Щукарь ответил, вытирая ладонью слюну, сочившуюся с левой стороны рта:
— А ничего такого особого. Вон какие молодые улеглись, а мне давно уж там покоиться пора. Задача ясная?
Но когда медленно пошел к столу, оказалось, что приволакивает левую ногу. Сворачивая папироску, с трудом поднял левую руку.
— Не иначе, старая, меня паралик стукнул, язви его! Что-то замечаю, я не такой стал, каким был недавно, — сказал Щукарь, с удивлением рассматривая не повинующуюся ему руку.
Через неделю он несколько окреп, уверенней стала походка, без особых усилий мог владеть левой рукой — но от должности кучера отказался наотрез. Придя в правление колхоза, так и заявил новому председателю — Кондрату Майданникову:
— Отъездился я, милый Кондратушка, не под силу мне будет управляться с жеребцами.
— Мы с Размётновым о тебе уже думали, дедушка, — ответил Майданников. — А что, ежели тебе заступить в ночные сторожа в сельпо? Построим тебе теплую будку к зиме, поставим в ней чугунку, топчан сделаем, а тебе в зиму справим полушубок, тулуп, валенки. Чем будет не житье? И жалованье будешь получать, и работа легкая, а главное — ты при деле будешь. Ну как, согласен?
— Спаси Христос, это мне подходяще. Спасибо, что не забываете про старика. Один черт, я по ночам почти не сплю, а зараз и вовсе. Тоскую я по ребятам, Кондратушка, и сон меня вовсе стал обегать… Ну, пойду, попрощаюсь с моими жеребцами — и домой. Кому же вы их препоручаете?
— Старику Бесхлебнову.
— Он крепкий старик, а вот я уже подызносился, подкосили меня Макарушка с Давыдовым, уняли у меня жизни… С ними-то, может, и я бы лишних год-два прожил, а без них что-то мне тошновато стало на белом свете маячить… — грустно проговорил дед Щукарь, вытирая глаза верхом старой фуражки.
С этой ночи стал он сторожевать.
Могилы Давыдова и Нагульнова, обнесенные невысокой оградой, были неподалеку, напротив лавчонки сельпо, и на другой же день, вооружившись топором и пилой, дед Щукарь соорудил возле могильной ограды небольшую скамеечку. Там он и стал просиживать ночи.
— Все к моим рóдным поближе мощусь… И им со мной веселей будет лежать, и мне возле них коротать ночи приятственней. Детей у меня сроду не было, Андрюшенька, а тут — как будто двух родных сынов сразу потерял… И щемит проклятое сердце день и ночь, и никакого мне покою от него нету! — говорил он Размётнову.
А Размётнов — новый секретарь партячейки — делился своими опасениями с Майданниковым:
— Ты примечаешь, Кондрат, как за это время страшно постарел наш дед Щукарь? В тоску вдарился по ребятам и на себя ничуть не похожий сделался. Видать, скоро подомрет старик… У него уже и голова трясется, и руки чернотой взялись. Ей-богу, наделает он нам горя! Привыкли к нему, к старому чудаку, и без него вроде пустое место в хуторе останется.
Короче становились дни, прозрачнее — воздух. К могилам ветер нес со степи уже не горький душок полыни, а запах свежеобмолоченной соломы с расположенных за хутором гумен.
Когда шла молотьба, деду Щукарю было веселее, допоздна гремели на гумнах веялки, глухо выстукивали по утрамбованной земле каменные катки, слышались людские понукающие голоса и фырканье лошадей. А потом все стихло. Длиннее и темнее стали ночи, и уже иные голоса зазвучали в ночи: журавлиный стон в аспидно-черном поднебесье, грустный переклик казарок, сдержанный гогот гусей и посвист утиных