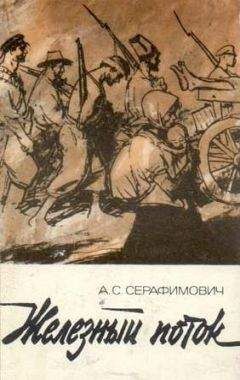И, все это благословляя, неисчислимо стоят церкви, кряжистые, каменные, присадистые, тысячелетние.
Из-за каждого сарая, из-за труб крыш, из-за голых деревьев, куда ни глянь, всюду выглядывает колокольня, зеленеет главка, торчит крест.
Какая-нибудь маленькая грязная свиная площадка на косогорье, а на ней расселось три, четыре, пять церквей, да монастырь в придачу.
Да, тысячелетия каменно сторожили они незыблемый клад святой Руси!
Но почему же теперь в тысячелетиях слежавшийся камень поражает глаз бесплодием? В редеющем тумане церкви кажутся мглистыми, далекими, тающими. Даже оригинальную архитектуру греческих храмов с колоннадами, роспись, часто древнехудожественную, не различишь.
Как видения.
И почему молчание всюду, и тяжелые висячие замки на железных дверях, и не бегают по проволоке с гремучей цепью собаки с черными косматыми ртами?
Торопливо продышит, обдав гарью, грузовик, протрещит мотоциклетка. А вместо степенных картузов, кафтанов да поддевок – одинаковые фигуры, где не отличишь красноармейца от командующего.
Идет новая жизнь, невиданная, неслыханная, и сама изумленно ломает в корень слежавшееся тысячелетиями.
Недаром тают каменные церкви.
– Была у нас партийная конференция, – говорят мне в совете, – со всего уезда съехались, человек четыреста. Ну, какие же это коммунисты… И условий-то нет подходящих, сплошь крестьянство, рабочих ведь нет. Но, знаете, какое ощущение: обломаются. Обломаются и будут идти в ногу с пролетариатом. Ведь теперь на каждом шагу чудеса. Да вот вам… В совете работает шестьдесят два человека, и среди них только четыре интеллигента, остальные – все крестьяне. А посмотрите, как работают. Сколько здорового, нутряного, черноземного трудового чутья. И как вплотную, по существу подходят к вопросам и решают их, решают смело, не колеблясь, чутьем угадывая принципиальную сторону. Разумеется, не без задоринки, не без промахов, не без ошибок. Да разве в этом суть? Важно, что крестьяне,
только-только от сохи оторванные, идут вместе с коммунистами…
Да, тают церкви!..
– Национализировали торговлю. Конечно, трудно. Даже не перескажешь, как оно пойдет. Частный торговый посредник убит. Надо создавать новый распределительный аппарат. Денег нет. Собрали контрибуции с буржуазии два миллиона и всё убухали на народное образование. Дальше двух верст друг от друга у нас нет школ, а больше – верста, полверсты. Иконы, молитвы, попы – все выметено из школы. Ну, некоторые из-за этого позабрали детей, вернее внуков, – деды позабрали. Только это самый ничтожный процент; подавляющее большинство крестьянства совершенно равнодушно выпроводило из школы попов с их иконами, крестами, песнопением, со всем поповским хламом. Ребятишки также неподдельно рады – меньше учить надо будет. Старые учителя часто подают в отставку – не могут помириться с новой трудовой школой, а молодежь учительская – та горячо берется за дело. Недохватка учителей большая. Помните, было время, крестьяне закрывали школы после февральской революции, разгоняли учителей. А теперь чуть не каждый день приходят, просят: «Откройте школу». Мы говорим: «Хорошо, дайте помещение, оборудование, сторожа, а мы пришлем учителя». Сейчас же дают, и школы растут, как грибы.
Вспомнишь былые времена, теперь все иначе. Прежде, бывало, где вселяется штаб или какая-нибудь войсковая часть, это значит – как тяжелый туман над населением, вселяется разгул, разврат и насилье. Теперь в тех местах, где штаб или крупная войсковая часть, – военный отдел по распространению литературы, которая широкой волной льется в население, часто нетронутое и темное.
Тают церкви…
Иду в штаб.
Было невытравимое ожидание встретить военщину, – не военную обстановку, это естественно, – а именно военщину. Как бы ни изменились времена, вытравить сложившееся веками невозможно.
Мне приходилось бывать в штабах в Галиции. И с тоской, бывало, вглядываешься в офицерские лица: ведь и у них же бьется сердце человеческое, и ищешь человека, и не находишь, – все мертво, задавлено писаной и неписаной субординацией. И дело, разумеется, не во внешних только признаках подчинения, не в эполетах, не в знаках отличия, а в страшном, мертвящем отсутствии человеческого достоинства, снизу доверху. И оттуда – в страшном отсутствии чувства ответственности. И когда я, бывало, входил в блестящий штаб, я будто входил в гробовое помещение, обитое золотом и серебром и переполненное гнилью и мертвечиной.
И как же радостно было теперь, когда я пришел… домой! Это – мой дом. Кругом милые лица товарищей. Ни угодливости, ни заискивания, ни высокомерия, – свое.
Штаб – это огромная фабрика, где командный состав – искусные инженеры, а товарищи-коммунисты – сердце, горячие биения которого отдаются в самых дальних уголках огромной фабрики.
И инженеры, и сердце гонят по фронту пролетарскую кровь, пролетарские дымящиеся мысли, волю, настойчивость, – они спелись, работают дружно. Саботажники изгоняются и караются нещадно. Наверно, все-таки они есть, но все по-собачьи поджали хвосты и работают, не оглядываясь.
Теперь одно можно сказать: партия сумела взять командование в свои руки.
Работу коммунисты несут колоссальную. В данный момент ее даже не учтешь. Они дают Красной Армии газеты, библиотечки, литературу; они агитируют, они охраняют армию от саботажников, от измены.
Днем и ночью, не смыкая глаз, они берегут, как зеницу ока, рабоче-крестьянскую силу.
Воистину, коммунистическая партия несет армии жизнь. Без партии здесь воцарилось бы разложение и смерть.
В группах коммунистов, разбросанных по штабам, есть и неровности. Всякая партия включает в себя работников различной партийной напряженности, различной внутренней значительности. Есть закаленные бойцы, есть побледнее.
Это естественно и неизбежно, и нет в этом ничего ни худого, ни опасного.
А вот что худо и опасно: нет внутри партийных групп взаимной связи, внутренней групповой жизни. Тут каждый за себя. Не собираются, не живут партийной жизнью. А когда делаются попытки созвать собрание, приходит еле седьмая часть.
Это уж опасно.
Надо принять во внимание: работы у коммунистов подавляюще много, отдыха никакого; здесь нет ни воскресений, ни праздников, ни перерывов, – изо дня в день все та же напряженность.
И все-таки партийная жизнь должна быть. Она всех объединит, подтянет слабеющих, осмыслит всю работу.
Наиболее энергичными товарищами уже делаются в этом направлении усилия.
Великой мукой, великой ценой идет невиданное строительство Красной Армии.
Все кверху ногами. Там, где дома, телеграфные столбы, самые деревья пропитаны дыханием помещичьей жизни, где лошади по улицам бегали как бы с выражением на мордах незыблемости все пропитавшего черносотенства, – там через город протянулась улица Карла Маркса, главная улица. Поднялся на гранитном пьедестале бюст Карла Маркса, и стоит прекрасная пролетарская школа I и II ступени имени Карла Маркса, трудовая школа, – коммуна с мастерскими, наполненная детьми пролетариата. Обучение бесплатное. Воспитанники будут бесплатно снабжаться учебными пособиями, бельем, одеждой, горячими завтраками.
Это – образец, с которого будут делать слепки все другие школы.
Симбирск обогнал Москву. В Симбирске я в первый раз видел стройные колонны учащихся среднеучебных заведений со своим оркестром во главе на октябрьских торжествах, на демонстрациях по поводу революции в Германии. И это – за совесть, а не за страх: никто их не тащил, не принуждал.
– Знаете, положение создалось, – говорили мне здесь, – такое, что мы через детей влияем даже на буржуазные семьи. И настроение здесь создалось такое, что если бы сейчас всеобщие выборы по четверохвостке, так выбраны были бы только коммунисты.
Буржуазия бежала при вступлении советских войск массой. Бежали без оглядки, бросая квартиры, мебель, белье, обстановку, горячий борщ на столе. Адвокаты, попы, доктора, инженеры, купцы, домовладельцы, фабриканты, помещики, – тысяч десять убежало, и бросили свыше трех тысяч квартир.
Теперь здесь, где над селением висела удушливая черная мгла невежества, безграмотности, непроходимого бесправия, ныне, жадно захлебываясь новизной, кипит строительство.
Мохнатое столыпинское сердце еще больше бы почернело при виде того, что делается на его родине.
«Благородное» дворянское симбирское земство, одно из самых реакционнейших земств России, не имевшее даже отдела по народному образованию, знало, что делало, – оставило проклятое наследие революции: семьдесят процентов безграмотных на губернию.