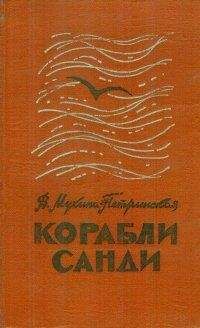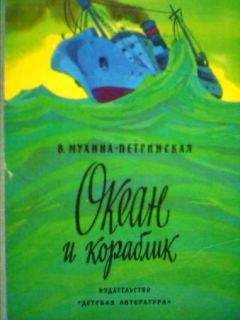В каюте больного мы были втроем: капитан, кок и я.
Ян Оттович был в полном сознании, но сильно ослабел. Сердечная недостаточность. Кок сделал ему очередную инъекцию камфары, я осторожно положил к месту укола горячую грелку, завернутую в полотенце.
Мы сделали все, что могли, и ждали, когда лекарство окажет свое действие.
— Замучил я вас всех, — виновато прошептал механик.
— Ерунда, лишь бы ты поправился, старина! — наклонился к нему Евдокимов.
— Вот так я и мечтал встретить свой час, — с удовлетворением проговорил механик.
Он прислушался к гулу машин: они работали исправно. Старый механик за доли секунды, по звуку, едва ослабевал привычный гул, мог определить отклонение в работе механизмов. Уже смертельно больной, он сразу проснулся, едва остановился правый двигатель. По его просьбе я передал в машинное отделение приказ проверить топливную систему. Старый механик успокоился лишь тогда, когда неисправность устранили.
Для него все шло как надо. Он был счастлив, что умирает не в больнице среди чужих людей, а на корабле и что дорогой его капитан рядом.
Страха смерти он не испытывал. Конечно, ему хотелось еще пожить, поработать, порадоваться солнцу, океану, добрым людям. Послушать, как отбивает склянки медный колокол-рында, голоса, смех, песню.
Он вдруг улыбнулся лукаво.
— А ведь мне… 74 года, — сказал он капитану. — В войну рассеянный писарь поставил… на девять лет меньше, а я промолчал… Хорошо сделал, меня бы давно списали на берег… Я хорошо пожил, потому что любил свою работу…
Он посмотрел на меня сочувственно и любовно., — Даниил… я был другом твоего отца… Я скажу тебе как отец… Ты не корабль любишь… ты… театр любишь. В театр и иди… все равно кем… Хоть рабочим сцены… плотником. Когда любишь, найдешь свое место. Не плачь, Дан.
Да, Владя, я заплакал. Я поцеловал его руку и выскочил в коридор. Там, притихнув, стояли ребята. Я пробежал мимо них.
В коридорах и отсеках корабля было пустынно и тихо. Машины стучали ритмично и надежно, как сердце здорового человека…
От переутомления или от расстройства, но я все воспринимал зыбко, как во сне. И мне вдруг показалось, что я уже видел когда-то эти длинные пустые коридоры, освещенные электрическим светом.
Я вернулся в каюту. Капитан и кок советовались, что еще предпринять для больного. Но ему это уже было не нужно.
— Дан, позови всех… прощаться, — внятно сказал старый механик.
Он, не торопясь, простился со всеми. Никто не смел при нем плакать. Потом он ушел от нас навечно.
Теперь я не боюсь смерти, а жизнь люблю еще больше, чем прежде.
Я вернусь в Москву и поступлю в театр, хоть рабочим сцены.
И наверное, женюсь на тебе.
Твой Даниил.
Глава одиннадцатая
А ВДРУГ ЭТО ТАЛАНТ?
Когда папа узнал, что я еду завтра в Рождественское, он даже в лице переменился. Сразу оделся и куда-то ушел. Вернулся с пачкой книг. У себя в комнате долго рылся на книжных стеллажах. Был уже вечер, мама где-то задержалась.
Когда я вошла к папе, он показал на объемистую пачку упакованных книг.
— Передашь одной женщине в Рождественском книги? — спросил он смущенно.
— Пожалуйста, но, может, по почте отослать?
— Видишь ли, дочка, я хочу, чтобы ты сама отнесла ей эти книги… как подарок. Ей давно хотелось тебя увидеть.
— Папа… А кто это?
Мы сели рядышком на его кровать. Отец потрепал меня по руке.
— Она колхозница, Александра Прокофьевна Скоморохова. Эта женщина… меня любит. Редкий и щедрый дар от человека. Я тоже ее люблю. Но… ведь у меня семья. Впрочем, вся моя семья — это ты, Владька. Не мог я тебя оставить Зинаиде одну… А она бы тебя не отдала.
— Но я уже большая!
— Теперь большая. Только теперь. И то я тебе еще очень нужен. Разве не так?
У меня сдавило горло.
— Еще как нужен!
— Ну вот… Все так сложно. Я думал… Может, Зина сама от меня уйдет. Она же стыдится меня: простой рабочий. Если я перед кем и виноват, так перед Шурой. Она меня по-настоящему любит. Я тебя очень прошу, дочка, окажи ей всяческое уважение. В деревне о ней много болтают разного, но это все неправда. Просто она на всех не похожа, а этого люди обычно не любят.
— Расскажи о ней, папа.
Он закурил. Вроде бросал курить, но, видимо, опять начал.
— Голос у нее чудесный был… так пела — заслушаешься. Но… работа в поле… то морозы, ветер, то зной… Теперь голос уже не тот.
Была она замужем… Ты видела «Три тополя на Плющихе» с Дорониной? Помнишь?
— Раза четыре смотрела — и в кино, и по телевизору.
— Ну вот, помнишь там личность мужа? Хозяйственный, жадный, прижимистый, а мужик — красивый… Вот примерно такой муж был у Шуры. Только этот работал механизатором. Шура не могла ужиться с ним. Ушла. Поселилась в бывшей своей избенке на околице. Он-то все собирался продать избенку, а Шура не соглашалась: там мать жила и умерла. И бабка. И вот теперь пригодилась… Был у нее ребенок — девочка. Умерла.
Живет Шура одна. Странная она, гордая, взбалмошная. В работе безотказная: куда пошлют, туда и идет. Никогда не ищет где полегче. Мне, говорит, все равно. Ну ее и посылают!
— Папа, она телятница?
— Нет, в полеводческой бригаде работает. Она природу очень любит… Может на всю ночь уйти в лес… одна. И читать любит. Начитанная. Вот я ей все книги и посылаю. Уж очень она им радуется. Особенно если про театр или про артистов. Остановишься у нее?
Отец напряженно смотрел на меня. Даже жилки на висках вспухли.
— Если ей это будет приятно, то, конечно, остановлюсь.
— Спасибо, дочка.
Мы немного помолчали.
— Это ведь племянница Рябинина, — вдруг сказал отец.
— Эта Шура?
— Да.
— Так она двоюродная сестра Геленки?
— Да. Но она никогда у них не бывает. Геленка даже не знает ее. Одинокая она очень — Шура-то. Так ты остановишься у нее?
— Я же обещала.
Отец поцеловал меня в щеку. Бедный папка!:
Скоро пришла мама — элегантная, самоуверенная, скрытная.
Я быстро приготовила чай, но мама не захотела чаю. Она уже где-то поужинала.
Перед сном я хотела поцеловать ее (мне стало жаль, что отец ее больше не любит), но она так официально взглянула на меня, что я только сообщила, что завтра еду в командировку.
— Надеюсь, ты там не наделаешь никаких глупостей? — сказала она рассеянно.
Засыпая в тот вечер, я думала о том, какое это огромное счастье — настоящая дружная семья, где все горячо любят друг друга, как у дяди.
Если бы случилось такое прекрасное чудо, и Ермак женился бы на мне, я родила бы ему четверых детей — нет, шестерых. Как бы нам было хорошо всем вместе! А папа стал бы дедушкой и уже не думал бы ни о каких деревенских колхозницах… Если бы она действительно оказалась доброй женщиной и принесла бы ему хоть немного душевного тепла и счастья.
Милый, милый мой папка!
Село Рождественское раскинулось на берегу Оки, наполовину в сосновом бору. Бревенчатые дома окружали врассыпную сосны, березы и лиственницы. Было много пней. Клуб и кино находились в древней деревянной церквушке. Сегодня шел фильм «Андрей Рублев».
Мы добрались до Рождественского к вечеру и сидели в правлении, ожидая, пока нас устроят. На стене висел портрет знатного земляка — Рябинина.
Председатель колхоза Иван Амбросимович Щибря, крепкий, коренастый, с обветренным, морщинистым, коричневым лицом, усами в виде щеточки и синими-пресиними глазами, казалось, не очень нам обрадовался, но встретил радушно и гостеприимно. Он живо определил моих спутников на постой и меня хотел куда-то поместить, но я заявила, что хочу остановиться у Скомороховой, если мне покажут, где она живет… Щибря почесал затылок (древний символический жест) и сказал, что, похоже, Шура не примет к себе. Она даже на работу сегодня не выходила: тоска на нее напала, — а в такие дни она любит быть одна.
— А вы что, знаете ее?
— Да нет. Но я хочу остановиться у нее. Книг вот ей привезла…
— От Гусева, что ли?
— От Гусева. Я его дочь.
— Вот оно какое дело. Ну что ж, идите к ней.
Он вышел со мной на крыльцо и позвал первого проходившего мальчишку.
— Василек, проводи вот шефа до избы Скомороховой. Вещи-то помоги ей донести. Здесь книги тяжелые. Если Шура не примет ее, отведешь к тете Паше.
— Ладно уж! — Парнишка взял у меня чемодан, книги и вразвалку пошел вдоль бревенчатых изб.
— Вы из Москвы? Из самой Москвы? — поинтересовался Василек.
Я объяснила, кто мы и зачем приехали.