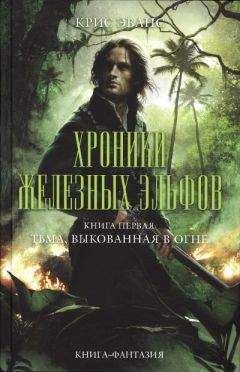Оппи продолжает сидеть на стуле, посредине комнаты, сосредоточенно глядя прямо перед собой.
— Представляете, — продолжает Ивенс, — любого из нас, ученых, правительство запрашивает о чем-то, и если, допустим, мой ответ, то есть мое мнение, не понравится этим болванам, они начинают рассматривать меня как подозрительного. Хороши порядки. Этот Маккарти окончательно спятил. Нет, это касается не одного вас, это на нас всех покушаются. Вы слышите, Оппи?
— Не знаю, Ивенс, не знаю… — говорит Оппи. — Мне хочется понять свою собственную ответственность. В чем я виноват. Сейчас мне важно не оправдаться, а выяснить…
Он остается один. Пустые, обшарпанные канцелярские столы стоят перед ним, пустые кресла, папки донесений, досье, показаний. Коробки с магнитофонными лентами записей. Фотографии с рулонами пленок-негативов. Протоколы опросов…
В доме Курчатовых, внизу, в холле, у деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, одевается старый доктор. Марина Дмитриевна, зябко стягивая на груди платок, допытывается:
— Ну что, профессор?
— Второй инсульт, он и есть второй инсульт, — ворчливо отвечает профессор. — Он это знает. Сейчас состояние… — Марина Дмитриевна подает ему шубу. — Спасибо… Состояние несколько лучше, но по-прежнему строжайший постельный режим. Никаких резких движений, никаких деловых разговоров. Никаких волнений… Никаких посетителей. Покой, покой и покой… Вот главное его лекарство.
Он застегивает свою старомодную шубу, целует Марине Дмитриевне руку, смотрит на нее из-под мохнатых своих седых бровей, стараясь быть как можно строже и суровей:
— Марина Дмитриевна, вы сами должны понимать, второй удар, тут можно всего ждать.
Нахлобучив меховую шапку, он уходит. Марина Дмитриевна, прикрыв дверь, стоит, держа руку на холодном замке, собираясь с силами.
А наверху, в спальне, высоко на подушках, лежит Курчатов. За стеклянной перегородкой кипятит шприц медицинская сестра. Курчатов, прикрыв микрофон рукою, тихо и весело говорит в трубку:
— Николай Васильевич? Вас приветствует дважды ударник Курчатов, да, дважды ударник, — подмигивает он и сразу переходит на серьезный тон. — Задерживаете, задерживаете рабочие чертежи ОГРы… Но этот фантазер Головин хочет закончить ОГРу в конце года. И дай ему бог… Что? Не согласен. Воронежская атомная уже строится. Белоярская тоже… Судовые реакторы прошли испытания… А сейчас самое главное… Одну минуточку…
Тем временем входит со шприцем сестра. Курчатов, не прерывая разговора, поворачивается на бок, откидывает одеяло, подставляя для укола ягодицу.
— Хм… — крякает он от укола и тотчас повторяет: — Сейчас самое главное… Спасибо. Да нет, это не вам. Вас благодарить рано, рано, да…
Сестра выходит, а Курчатов, изучая развернутый чертеж, уже говорит по телефону с другим:
— Привет, Анатолий Петрович, нет, нет, ни о каких делах я разговаривать не собираюсь. Просто я придумал название для импульсного реактора. ДОУД-три. Что это значит? А значит, что я хочу увидеть его в действии до того, как меня хватит третий удар. До удара три. Физкульт-привет! — Он кладет трубку, как превеликую тяжесть, бледный, потный, бодрый его голос никак не вяжется с его изнуренным, больным видом.
Блестит мокрая брусчатка. Постукивает палка. В шляпе, в тяжелом пальто, опираясь на палку, по Кремлю идет Курчатов. Весна, орут воробьи, синее небо омыто и туго натянуто над Москвой. Пальто на Курчатове кажется тяжелым в этой солнечной теплыни, а может, еще и потому, что он исхудал и вид у него не очень здорового человека. Борода его поседела и стала жидкой. Его обгоняют депутаты, все направляются на сессию.
У Царь-пушки, как обычно, толкутся любопытные, особенно мальчишки. Они забираются на огромные ядра, на самую пушку, бесстрашно заглядывают в ее черный зев. И гомон сливается с воробьиным щебетом. Курчатов останавливается, наблюдая за этой детской игрой с такой древней, такой грозной на вид и совсем безобидной пушкой.
— Дед, а она стреляет?
— Наверное, — отвечает старый казах, с такой же длинной, висячей, тонкой бородой, как у Курчатова.
Курчатов сворачивает на Соборную площадь, поднимает голову и видит горящие на солнце маковки колокольни Ивана Великого, стоящей в белой своей нетронутой красе незыблемо и прочно, во веки веков. И все эти соборы, и могучие кремлевские стены, и маленькие ели, и дальше московские крыши… А в воздухе слышится звон колоколов, не набатный, не праздничный, а памятный с детства — музыка, которую вызванивали мастера-звонари на колоколах звонницы, как на гигантском органе…
Георгиевский зал сверкает белым мрамором, золотом. Многие депутаты так или иначе знают друг друга, хотя бы в лицо. Они здороваются, издали раскланиваются. Генералы, маршалы, знатные сталевары, чабаны — пиджаки увешаны орденами, медалями, звездами — этим здесь никого не удивишь. И все же фигура Курчатова привлекает общее внимание. Не только три Золотые Звезды Героя Социалистического Труда и лауреатские медали выделяют его. Что-то иное, необычное есть в этом богатырски сложенном человеке с интеллигентным лицом, с длинной редкой бородой. И взгляд его, сосредоточенный, ушедший в себя.
Перед ним расступаются, смотрят вслед, припоминая или спрашивая: «Кто это?» Кто-то радостно здоровается с ним. Но таких мало, его еще знают немногие. Постукивая палкой, он проходит в Грановитую палату, оглядывая картинки библейских сюжетов, расписанные на стенах, и бога Саваофа, парящего на потолке: румяного старичка среди пухлых облаков.
Не обращая внимания на устремленные к нему взгляды, с той же сосредоточенностью направляется он к трибуне, когда председатель объявляет:
— Слово имеет депутат Курчатов.
Гремят аплодисменты, из задних рядов кто-то приподнимается, всматриваясь в этого человека. С любопытством, почтением, с тем чувством, которое так свежо было тогда перед всемогущей и таинственной атомной силой. Может, от этого Курчатов чуть опечален, встревожен. Ему кажется, что шум аплодисментов не имеет отношения к нему, поэтому-то и доносится отдаленно.
Он надевает очки, раскрывает папку:
— …С этой высокой трибуны я обращаюсь к ученым всего мира с призывом направить и соединить усилия для того, чтобы в кратчайший срок осуществить управляемую термоядерную реакцию и превратить энергию синтеза ядер водорода из оружия уничтожения, разрушения в могучий живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на земле…
Он к чему-то прислушивается, словно бы цокают копыта, — нет, показалось. Он снимает очки, глядя вдаль, говорит:
— Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов… Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только на благо человечества отдадут достижения этой науки…
Снова слышится цоканье копыт. Курчатов умолкает, всматривается, видит, как далеко отсюда, где-то в 1924 году, вдоль гранитной набережной Невы едет молоденький красноармеец с карабином за плечом, в буденновском шлеме. Подковы цокают по торцовой мостовой. Опустив поводья, он едет мимо дворцов и узорчатых решеток, мимо рыбаков, лодочников, красный цветок торчит у него в петлице. Куда он смотрит? В какое будущее? Что он там видит? Эту ли трибуну, этот зал, этих людей?.. Куда он держит свой путь, этот парнишка двадцатых годов? И почему он явился сейчас перед Курчатовым? Молодость?.. Может, не только он слышит этот далекий цокот копыт, такой непривычный ныне, даже неизвестный для молодых. Может быть, и другие в зале услышали, поэтому они не удивляются внезапному молчанию Курчатова и ждут.
А он все всматривается, с нежностью и грустью следя за этим пареньком, едущим вдоль невской набережной…
1975
О елка, елка,
Как зелены твои ветки!
Ты цветешь не только летом,
Но и зимой, когда идет снег… (нем.). — Ред.