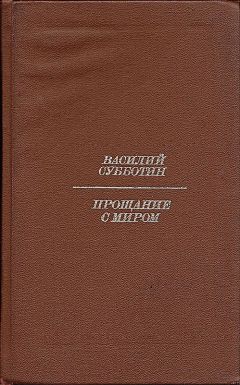Возле дома нам встретился старик. Как только мы вышли из автобуса, мы познакомились с ним. В ту самую минуту, когда мы подошли. Он был в телогрейке, со слезящимися глазами, глаза у него были такие же золотые, карие и круглые, как пуговки. Местный старик, яснополянский житель, Иван Васильевич Егоров. Это мы потом узнали.
Поглядев на меня серьезно-весело, он подмигнул мне. Он согласился проводить нас до могилы. Старик был у Толстого кучером. Все было неожиданно, и то, что мы его встретили, и то, что он с нами пошел.
Он потом разговорился и все прекрасно вспомнил. Сначала, когда мы к нему подошли, он стал отговариваться, что он все забыл, что память у него совсем плохая стала, что он ничего не помнит. Я понял, что он не хотел, чтобы к нему приставали.
Этот-то старик, возивший Толстого, его кучер, пошел с нами.
Однако у Ивана Васильевича, как я увидел, был свой маршрут. Сначала он повел нас кружным путем и завел на конюшню. Был это длинный двор, наподобие нашего колхозного. А потом Иван Васильевич показал нам сарай каретный, маленький, в конце этой длинной-длинной постройки. Лошадей тут не было, по старик распахнул перед нами широкую двойную дверь и скоро вывел под оглобли оттуда, из каретника темного, небольшую каретку крытую. Вот как раз, может быть, в такой и увезли Толстого. В ту ночь.
«Много было, да ничего не осталось», — сказал старик со-вздохом. Недалеко от того каретника, через дорогу, стояла кучерская, невысокая приземистая изба, крытая соломой. И, конечно, Иван Васильевич повел нас и сюда: «Вот мы тут и жили», — сказал он.
Мы долго шли с ним к могиле через усадьбу, через густую осыпающуюся листву, через красу эту, начинающую валиться на дорогу, через желтизну, которая только потом, ближе к лесу, переходила в хвойную, в строгую, и не высокий старик со слезящимися главами продолжал рассказывать нам, как он ходил учиться к Льну Николаевичу Толстому, и про Ясную Поляну, про Красную улицу, где; они гуляли молодыми и где Толстой прогуливался. «При Льву Николаичу тут так было…», «А бывало при Льву Николаичу…» — говорил он.
Деревня была отделена лугом, низиной, изумрудно-зеленой рекой травы.
Так, шагая в тени березок молоденьких, по этой дороге, по этой аллее, в смене их, в чередовании зеленых и желтых тонов, вышли мы наконец на бугорок, к островку пахнущего сыростью лесного крутого оврага, к этой части земли, к месту, где находилась его обложенная дерном могила, на этом натуральном, созданном самой природой холме.
Мы подошли и стали вокруг. И тут старик Егоров опять стал говорить. Я не могу так хорошо и подробно передать то, что он говорил, времени прошло много, но я должен предупредить, что его очень важный для меня рассказ совсем не похож на известную легенду про зеленую палочку, историю о четырех братьях Толстых, на сложную, но так до конца и не досказанную историю из детства Толстого, но все же я хочу припомнить этот давний рассказ.
— Говорили мне, — говорил Иван Васильевич, — будто бы тут, когда он еще малой был, они зеленую палочку какую-то закопали. Но я про то, конечно, не знаю, а вот что помню.
Выехали они в тот день с Толстым рано. Ездили целый день, верхами ездили, выехали еще с утра. Это, как я понял, еще задолго до смерти… А на обратном пути заблудились. Поездка была дальняя, длительная. Ездили то ли на охоту, то ли к соседям. А может быть, объезжали поля или хлеба смотрели. Ехали они так с Толстым по лесу и поняли, что заблудились. Место незнакомое! А леса тут казенные до самого до Брянска. И совершенно случайно, когда уж думали, что заблудились, подъехали они к этому оврагу своему. И он сказал об этом Толстому. Лев Николаевич сначала удивился (оказалось, что вот он, дом, рядом), потом помолчал, поглядев на своего Ивана Васильевича, и сошел с лошади, переда is тому повод.
Иван Васильевич надолго остался с лошадьми.
— Я стоял, стоял — ждал. Долго его не было. Дай, думаю, погляжу, где он, беспокоиться начал. Раздвинул я кусты, а он тут вот, на этом месте. Сидит на пенушке вот тут, сидит и сидит. Знать, что-то вспомнил. Потом, когда Лев Николаевич вернулся, он такой печальный сделался и, пока ехали до дому, все молчал.
Потом уж, через год или два, когда похоронили Льва Николаевича здесь, в Ясной, в Ясной Поляне, которая всю жизнь была его колыбелью, а стала его могилой, все вспоминал Иван Васильевич, как он нашел Льва Николаевича, как тот сидел возле оврага, которым со всех сторон окружена его могила в Старом Заказе.
А было это место его детских игр.
Иван Васильевич поверял нам этот рассказ, подсмотренную им чужую тайну, с большим волнением. Стоя тут, над могилой, щуривший свои маленькие глаза-пуговки, слабый, плохо видевший старик говорил шепотом, будто Толстой мог его услышать. И я подумал тогда, что то, что он рассказывал, он, может быть, говорил впервые.
Когда мы возвращались от могилы я к дому уже подходили, на поляне, недалеко от вяза, дерева бедных, с его глубоко вросшим в середину ствола колоколом, — толклась толпа. Не понимая, что тут происходило, я подошел ближе и увидел какого-то чернявого мальчика. На нём была шинель и штаны с красными лампасами.
Мальчик этот был суворовец, приехавший из Тулы. За его плечом стоял офицер, майор. А мальчик толково так все объяснял, как и что… И все этому были немало удивлены, а это был праправнук Льва Николаевича Толстого — воспитанник тульского Суворовского училища — юный Лев Николаевич Толстой.
Майор, приехавший вместе с мальчиком в Я сную Поляну, глядел у него из-за плеча, как будто перед ним стоял сам Лев Николаевич… Майор, чувствующий себя сержантом, неловко улыбающийся.
В Ясной Поляне мы пробыли весь день: побывали и в деревне и даже зашли и ресторан, на выезде из усадьбы — здание с тяжелыми бархатными шторами и расписными потолками, где непременный швейцар, сухенький старичок, ревнуя к слано, рассказал нам про Ивана Васильевича, что и вовсе он не такой старый, что ему всего-навсего семьдесят два года, а Толстого он знал только последние два года, а раньше был пастухом…
Потом мы вошли в дом. Мы осмотрели весь его дом, фотографии, портреты фамильные. Прототип старого графа Ростова, прототип Наташи. Действительно, такая большеглазая, как Наташа; и не очень красивая, большеротая. И — кудрявый, с черными смоляными, выбивающимися из-под фуражки волосами — Егоров Иван, совсем молодой парень, форейтор, с длинной гнедой лошадью в поводу. А рядом колючий и какой-то сверлящий взгляд Толстого. Прототип того, прототип другого…
И наконец мы спустились в подвал.
В этом большом доме этот подвал потрясает.
Меня все поразило. И то, что в огромном этом сухом доме нашлась единственная комната, тихая, спокойная, этот столь бедный обстановкой глухой, сырой подвал. Знаменитая комната под сводами.
Единственная спокойная комната был этот глухой подвал!
В подвале висела уздечка на стене, табуретка залоснившаяся, перетянутая ремнями, инструменты в углу… Кровать. Маленькая кровать. Значит, и спал он здесь. Как мастеровой.
И, на уровне с землей, возле окна — стол. Приткнулся в подвале, чтоб не мешали. Из большого, удобного и все-таки богатого дома — бежал в подвал. Ушел от шума. Хватит ему и этого. Все равно старик не делом занимается.
Я сразу бросился к окну. Мне казалось страшно важным знать, что же было видно Толстому из окна. Возле окна был какой-то куст голый. Как мне показалось, это был куст смородины.
Окно, перед которым писал Толстой…
В Михайловское возил нас Андроников…
Михайловское — не деревня, Михайловское — всего-навсего один дом, и это дом Пушкина. Деревни и близко нет.
Это кордон. Заимка, хутор.
Пробитый пыльцой цветущей ржи, по дороге, по которой оп ходил, идешь краем земли, поля, и вдруг входишь в лес, в высокий сосновый бор.
По знакомому черному сосновому бору, где все настояно на смоле да на чернике и где даже сама трава не растет, а только мох, да иголки, да хвоя, три слоя хвои. Этим пропитанным духом хвои лесом идешь долго. Лес и лес.
Как в моем детство, на лесном кордоне, в Сибири!
Вы еще долго идете по этому доброму острому бору и вдруг — снова вдруг! — выходите к дому. Эта песчаная дорога-аллея, идущая через бор, подводит вас к самому крыльцу… Еще две-три ступеньки, и вы уже открываете дверь. И когда вы входите в дом — из окон в глаза вам пышет река. Перед вами расстилаются луга, видны поля, и даль видна, даль без конца. Луга, и Сороть, и поля. Свет! Свет полыхает вам в лицо. Так неожидан он, этот переход из темного леса в светлые поля…
Дом поставлен прямо на границе леса и поля. На берегу реки.
Среди многих неожиданностей — городище Вороним. Расположено оно на дороге от Михайловского к Тригорскому. Кроме того, что это высота — холмы, над всем господствующие далеко, это еще и насыпное нечто. Явные рвы видны везде и всюду. Как я думаю, передо мною были искусственные валы и укреплении.