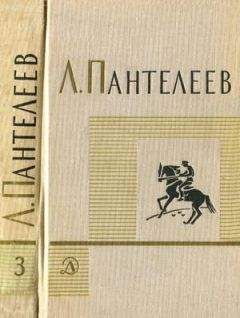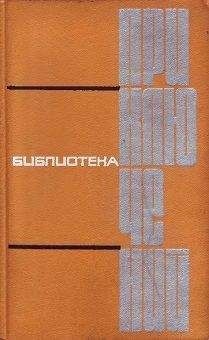– Дело за вами, товарищи комсомольцы! – Артюхов отошел в сторону, присел на пенек и полез в карман за папиросами.
– Разрешите, товарищ старший лейтенант? – обратился к нему Брякин.
Артюхов кивнул.
– Товарищи, – сказал Брякин, немного волнуясь и продолжая крутить свой блокнот, – не в первый раз мы собираемся с вами вот так, как собрались сейчас вокруг нашего командира, чтобы выслушать его приказ, который по существу является приказом нашей Родины. Нужно ли нам с вами напоминать, что мы, комсомольцы, вместе с нашими старшими братьями коммунистами являемся передовой частью, авангардом нашей армии и что для нас приказ Родины – это священный приказ. Э, да, впрочем, что говорить…
Брякин улыбнулся и сунул свой блокнот за пазуху полушубка.
– Товарищи, времени мало, уже занимается заря. Скоро в бой. Разговаривать долго некогда. Задачу нам товарищ старший лейтенант объяснил: через час, самое большее через полтора мы должны будем овладеть опорным пунктом противника, деревней Чернушка. Что мы овладеем ею, никто из нас не сомневается. Эта маленькая деревня с таким безобидным и даже смешным названием – русская деревня, и в этом все дело. Как бы она ни была мала и ничтожна, она стоит на русской земле, и немцам на этой земле делать нечего. Им здесь нет места! Это наша земля. Была, есть и будет. И через час мы это докажем им. Не правда ли, орлы?
Брякин еще раз широко улыбнулся.
– Правильно! Правда! Докажем по всем правилам! – ответили ему из темноты взволнованные голоса. Кое-кто, по старой гражданской привычке, захлопал в ладоши.
Командир роты поднялся со своего пенька, подождал минуту и спросил:
– Ну, кто еще хочет сказать?
– Матросов! – крикнул кто-то.
Саша сердито оглянулся. Ну да, конечно! Матросов! Всегда Матросов. Как будто у него другого дела нет, как выступать на собраниях.
Артюхов поискал глазами Матросова и приветливо кивнул ему:
– А ну, Сашук, давай скажи нам, что ты думаешь.
Что он думает? Как будто это так просто и легко рассказать, о чем он сейчас думает!
Он думает сейчас… Но нет, он даже не думает, потому что думают словами, а у него и слов под рукой подходящих нет.
Он чувствует всем сердцем и всем существом своим, что больше всего на свете, больше собственной жизни он любит свою советскую землю, свою страну, свою Родину.
Всякий раз, когда упоминают при нем название этой деревни – Чернушки, он испытывает нежность, какую испытывал только в детстве, когда засыпал на руках у матери, положив ей голову на плечо. С нежностью думает он об этих людях, о своих братьях по крови, которые томятся там, за густыми зарослями Ломоватого бора, за безыменным оврагом, в маленькой русской деревушке, захваченной и терзаемой уже полтора года фашистским зверьем.
Но разве об этом скажешь? Разве повернется язык сказать все это вслух?
А ребята подталкивают его. Со всех сторон кричат:
– Матросов! Давай, давай! Не стесняйся!..
Саша вздыхает и яростно чешет затылок.
– Есть, – говорит он и делает решительный шаг вперед.
– Гвардии красноармеец Матросов… – обращается он, как положено по уставу, к старшему офицеру. Потом опять вздыхает, и рука его опять сама собой тянется к затылку. – Гм… Товарищи комсомольцы и вообще присутствующие… Заверяю вас… что я… в общем, буду бить немцев, как полагается, пока рука автомат держит. Ну, в общем… понятно, одним словом.
– Понятно! – отвечают товарищи.
Ему кажется, что ребята смеются над ним, хлопая в ладоши. Чтобы не покраснеть и не показать смущения, он усмехается и, ни на кого не глядя, отходит в сторону.
Выступали после него другие комсомольцы, и многие говорили то же самое и тоже не очень складно и не очень красиво, но почему-то никто не краснел и не смущался. А Саша стоял, прислонившись к дереву, смотрел себе под ноги, напряженно думал, шевелил бровями и не замечал, с какой нежностью, с какой отцовской гордостью и любовью поглядывает на него, восседая на своем пеньке, командир роты.
А старшина уже складывал командирскую палатку. Уже слышалась во взводах команда: «Подъем!» В морозных потемках глухо звучали голоса, мелькали огоньки…
Комсомольцы разошлись по взводам. Через несколько минут рота построилась, и усталые, невыспавшиеся люди снова зашагали в ту сторону, куда вели их карта, компас и боевой приказ.
3
Дороги не было – шли разомкнутым строем. До рассвета оставалось немного, нужно было спешить, и люди, превозмогая усталость, нажимали, ускоряли шаг; отстающие, спотыкаясь и падая, проваливаясь в снег, бегом догоняли колонну.
Матросов и Бардабаев шли в голове колонны, и доставалось им поэтому больше, чем другим: все-таки сзади идут уже по проторенной дорожке, а перед ними нетронутая целина, густой снег, сугробы в человеческий рост. Бардабаев – тот парень высокий, он вообще правофланговый, ему на роду написано ходить впереди строя. А как попал сюда Саша, человек небольшой, среднего роста? Но так уж всегда бывает: как-то само собой выносит его всегда вперед, особенно перед боем.
А в лесу хорошо. Еще зима, еще покусывает носы и щеки ядреный морозец, еще по-зимнему хрустит снег под ногами, но что-то неуловимое уже говорит о приближении весны. Легкий смолистый запах действует опьяняюще. Жалко, что нельзя петь: с песней идти легче.
Как всегда перед боем, говорят о пустяках.
– Валенок, черт полосатый! – говорит Бардабаев.
– Что?
– Прорыв на всем фронте… Обсоюзка сопрела. Снегу, я думаю, килограммов десять набилось!
– Ничего, – говорит Саша, – вот погоди, Чернушку возьмем – пакли достанешь, заткнешь. Это самое верное дело – пакля.
– «Верное дело!» – ворчит Бардабаев. – Еще раньше эту Чернушку надо взять.
Саша молчит. Молчит и Бардабаев. Оба думают об одном и том же.
– Возьмем? – говорит наконец Бардабаев.
– Возьмем, – отвечает Саша.
– А если опоздаем? Если, скажем, ихние танки подойдут?
– А зачем нам опаздывать? – говорит Саша. – Опаздывать – к черту. А если уж опоздаем, если действительно танки подойдут – ну что ж…
Он перебрасывает на ремне автомат и, искоса посмотрев на товарища, негромко творит:
– За себя, Мишка, я отвечаю. С гранатой под танк брошусь, а врага не пропущу.
– Гм… – качает головой Бардабаев. – Это легко сказать – под танк!
– Да нет, – улыбается Саша, – ты знаешь, и сказать тоже не легко.
– Все-таки легче.
– Кому как…
– Э, смотри, какой белячок проскочил!
– Заяц? Где?
– Вон – за елочкой. Нет, уж теперь не видно… Н-да, легко сказать. А ты знаешь, ты сегодня хорошо на собрании выступал.
– Иди ты к черту! – говорит Саша.
– Нет, правда. Может, какой знаменитый оратор и более интересно выступает, а все-таки…
Саша хотел выругаться покрепче, но тут его окликнули из задних рядов:
– Матросов! К старшему лейтенанту!
Артюхов шагал на левом фланге второго взвода, Саша подождал, пока он приблизится, сделал шаг вперед и приложил руку к козырьку ушанки.
– Ну как, Саша? – улыбнулся Артюхов.
– А что? – сказал Саша, тоже улыбаясь. – Хорошо, товарищ старший лейтенант!
Не останавливаясь, командир взял его за локоть. Они пошли рядом.
– Н-да, – сказал Артюхов. – А у меня к вам, товарищ гвардии красноармеец Матросов, между прочим, предложение есть.
Саша насторожился и искоса посмотрел на командира.
– В ординарцы ко мне пойдете?
Саша вспыхнул и сам почувствовал, как загорелись у него уши и щеки.
– Хочешь?
– Точно, товарищ старший лейтенант. Хочу.
– Ну, будешь ординарцем. Не отставай теперь от меня. Настроение, значит, хорошее?
– Очень даже хорошее.
– А ребята как?
– Ребята – орлы!
– Жить будем?
– Будем.
– Курить желаешь?
– От «Казбека» не откажусь.
От хорошей, крепкой папиросы у Матросова закружилась голова. Опять ему захотелось петь. Придерживая рукой автомат, он шел теперь легким широким шагом, стараясь идти так, чтобы и Артюхову оставалось место на тропинке.
– Товарищ старший лейтенант, – сказал он вдруг, не глядя на командира, – можно вам один вопрос задать?
– Давай.
– У вас кто-нибудь из родных есть?
– Ну как же… Слава богу, у меня семья, да и не маленькая.
– А у меня вот никого…
– Да, я знаю, – сказал Артюхов. – Это грустно, конечно.
– Нет, – сказал Саша.
– Нет?
Саша подумал и помотал головой.
– Раньше я, вы знаете, действительно грустил и скучал. И на фронт ехал – тоже паршиво было: никто не провожает, никто не жалеет. А теперь я как-то по-другому чувствую. Как будто я не сирота. Как будто, в общем, у меня семья… да еще побольше вашей.
«Опять я не то говорю», – подумал он с досадой.