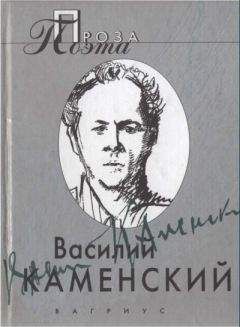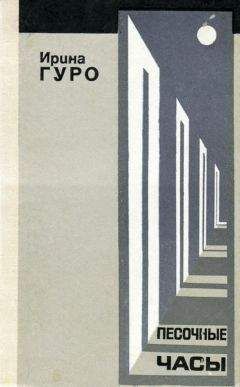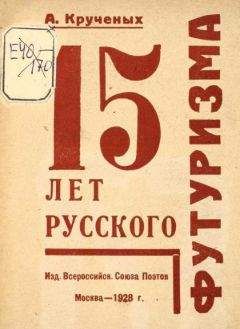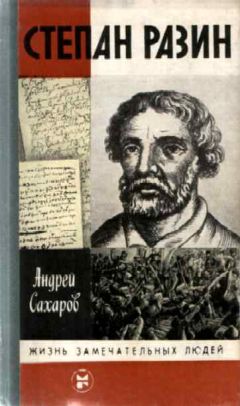В эту минуту черным ветром налетел монах:
— Уследили… жена Стенькина с двумя ребятами в монастырь шла… оглядывалась… к ней странник подошел хромой… милостыню подала… по его дороге и свернула на Кленовую балку… туды идут…
— Господи, благослови, господи, благослови, — торопливо крестился предатель, — вот хитрая, окаянная баба.
— Господи, помилуй, помоги, — крестился боярин.
Прибежали еще два монаха:
— Уследили верно… Стенька вылез из городка с пятью разбойниками… а за ним выползли еще трое… и Васька Ус там… из разговоров слышно было… На Кленовой балке, в лесу сидят… поджидают, табак курят… наши окружают… змеями ползнем-ползут… окружают…
— Господи, благослови! — молился предатель, — господи, помоги, даруй победу нам. Церковь святая! Их, стало быть, только восьмеро, а девятый Фролка с Алён-кой. Ну, благодать, ну, спасенье.
Все бросились по келиям за стрельцами, боярскими сыновьями, монахами-помощниками.
— Будьте настороже.
— Выходите за ограду.
— Коней готовьте.
— Клетку железную везите.
— Ждите приказу.
— Все тайно делайте.
— Бегу на колокольню, пущай в большой колокол ударят, чтобы шуму да криков не слыхать было в лесу, ежели заорут разбойники.
— Беги и другим колокольням тайно накажи от атамана Яковлева. Попам про это скажи. Попы постараются.
И чернота ночная скрыла предателей. Ударил большой монастырский колокол.
— Господи, благослови, — шептал трясущийся Корнило, пробираясь на Кленовую балку кустами с черными людьми.
Скоро несколько режущих голосов простонало в лесу:
— О-о-о-й… О-о-о-й-и…
— Степа-а-а…
— О-о-о… а-а… — неслось эхо смерти.
— Чуйте, братья! — вскочил Степан и опрометью бросился на крик.
— Спасай!
— Спасай Ваську!
И когда один за другим кинулись на помощь удальцы, разбившись поодиночке, из засады выскочила стая черных воронов и вцепилась в добычу.
В миг единый ощетинились монахи ножами, топорами и зарезали, зарубили шестерых удальцов.
— О-о-о… прощай, Степан, — доносилось издалека, куда ушел Васька Ус с Черноярцем встречать Алёну.
— Палачи! Предатели! — рычал Степан, разрывая, как нитки, веревки, на него набросанные, размахивая кистенем по вязким головам озверелых врагов ночных.
— О-о-о-о… — стонала тьма.
— Степан-ан…
— Прощай-ай…
— Степан… Сте…
— О-о-й…
— Прощай… а-а-и…
И верещавший голос предателя:
— Режь… руби… дави всех, окромя Стеньки… В мешок Стеньку… в мешок… Вяжи его, вяжи… Давай клетку… Вези. Лупи веревками, присмиреет анафема… злодей… еретик… Попался!..
Сквозь звон колокольный всех церквей гулом подземным стонал связанный в мешке, бьющийся в веревках Степан:
— Ой, да беда навалилась… Ой, лихая беда… Прощай.
Васька Ус, прощай, моя вольница вечная… Предал палач Корнилко… Продал, палач, мою голову. Да не продать ему, палачу цареву, воли голытьбы…
По грязным, вяжущим, водянисто-снежным ухабам ямской-московской бесконечной дороги, через степи, болота, леса, горы, реки, займища, мимо деревень, селений, городов, владений барских, урочищ, монастырей, на дубовой телеге, запряженной четверкой донских коней, в железной клетке, закованного в цепях везли на Москву Степана Разина с братом Фролом.
Целая армия войска царского с ружьями, пушками сопровождала великого атамана.
А войско было отборное, верное: сыновья князей, бояр, купцов, воевод.
Когда мимо деревень, селений проезжали, от рева, от слез стон стоял:
— Великомученик наш!
— Страдалец! Заступник!
— Отец родной, Степан Тимофеич!
Степан со слезами кланялся, прощался:
— Не поминайте лихом. Бейтесь за долю свою великую!
Когда мимо владений господских проезжали, из барских окон кричали:
— Туда и дорога вору-разбойнику. Жалко только, что у тебя, вор-Стенька, одна голова, а не дюжина, — мы бы сами сняли, — хоть одну твою голову в огород повесили.
— У меня не одна голова и не дюжина, — отвечал Степан, — а у меня без числа голов. И будет времячко — на своих барских башках вы это узнаете!
Когда мимо монастырей проезжали, попы с монахами, иконами, хоругвями, святой водой выходили, о здравии и победах христову воинству молились, о спасении веры, царя и отечества, а Степану исступленно бросали:
— Будь проклят! Антихрист! Еретик! Диавол! Анафема!
— Ишь воронье раскаркалось, — отвечал Степан, — уж, видно, досадил я вам, большебрюхим, по самое зевло дармоедское.
Попы плевались.
А когда после долгомученской дороги в городах останавливались и по неделе, по две жили, и когда, наконец, весной в Москву приехали, тут было всякое:
Кто ревел, в ноги Степану валился, землю целовал.
Кто ругался, плевался, проклинал, кулаками махал.
Кто детей приносил, благословения ждал, благодарствовал.
Кто молитвы читал.
Кто глазел.
Кто прощенья слезно просил.
Кто камни в клетку бросал.
Под Москвой, у городской заставы, шествие остановилось.
Тут много времени стояли.
Царские власти наезжали; хотели допрос чинить, но Степан отказывался отрезно:
— Ответ держать перед голытьбой привык, а перед вами не хочу.
И Фрол отказывался:
— Мы вам ответ на Волге дали.
Пыткой думали взять допрос.
Разины не испугались:
— Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Эшафот приготовили на Красной площади. В воскресный день шестого июня, только как отзвонили после обеден, громовой молнией пронеслась по Москве страшная весть:
— Везут Степана! Везут!
Толпы народищу всякого посыпалось глазеть кто куда и сами не знают. Кучи кинулись за город.
Стрельцы разъезжали по улицам и кнутами наводили порядок.
Из Земского приказа выехала большущая телега с виселицей навстречу Степану.
Народ бросился за телегой.
У городской заставы ждал Корнило Яковлев со стрельцами, а посредине на первой телеге в железной клетке, закованный в толстые цепи, сидел Степан.
За ним на другой телеге сидел Фрол, закованный в кандалы.
Степан весело кланялся народу, бодро покрикивая назад брату:
— Фрол, не тужи. Ишь день какой славный! Весело!
Фрол прищуренно взглянул на солнце и улыбнулся.
— Я не тужу. Мне тепло.
Подъехала большущая телега с виселицей.
Вытащили Степана из клетки, поволокли к виселице.
Стоймя поставили на телегу, к перекладине голову цепью подтянули кверху, чтобы нельзя было опуститься ниже. Ноги привязали к телеге.
У ног его посадили Фрола.
Тронулись в последний путь.
Народ зашумел, загалдел, заревел, заохал, застонал.
Только Степан, залитый солнцем, спокойно и ясно смотрел на народ и на небо своими большими утренними, детскими глазами и светло чуть улыбался думам своим о Волге.
Все было нестерпимо просто вокруг.
Солнце. Тепло. Тихо на небе. Какие-то люди. Телега. Чужие голоса. Перекладина. Неловко голове.
Не то. Не так…
Глаза Степана устремлены в небо: видит он там синедальние Жигулевские горы, и раздольную бирюзовую гладь любимой Волги, и около, по берегам, удалую свою понизовую вольницу, и лебединую стаю расписных стругов на парусах. Слышит он там переливный звон голосов и молодецкие вольные песни.
Большущая телега с виселицей остановилась у Земского приказа.
Народ запрудил улицы и галдел.
Стрельцы размахивали кнутами да саблями.
Снова хотели начать допрос. Не удалось.
Степан и Фрол гордо молчали.
Судья заорал:
— Стенька у нас заговорит!
Почуял это Фрол, припал к Степану и поцеловал братские ноги.
Фрола отдернули.
Степана начали пытать: ему связывали назад руки и поднимали к перекладине, потом скручивали ремнем ноги. Палач садился на ремень. Тело вытягиваюсь, руки выходили из суставов. Другой палач изо всей силы бил по спине ременным кнутом. Кожа вздувалась, лопалась, открывалась язвами.
Сто ударов вогнали в Степана, но ни единого стона не испустил он.
И все стоявшие около дивились много.
Потом связали вместе ноги и руки, продели сквозь них бревно и жгли горящими угольями зад.
Гордо молчал Степан.
Потом по в кровь избитому, обожженному до черноты телу начали водить раскаленным железным прутом.
И это снес молчаливо Степан.
Тогда ему остригли русые кудри и стали на темя лить по капле ледяной воды.
И эту муку стерпел молчаливо Степан.
Тогда с досады, что ли, начали бить палками по его ногам.
И эти страдания молчаливо принял Степан.
Все принял безмятежно, безропотно.