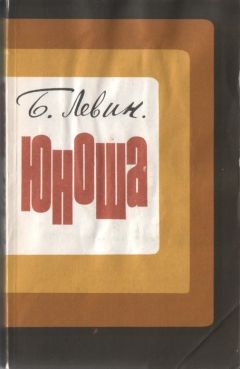Папа со всеми целуется. Все идут прямо по мостовой. Над головами идут красные флаги.
Папа крепко держит под руку Нину, а у нее спадает правая калошка, но это неважно… Снежинка упала в рот. Снежинка застряла в ресницах, но это неважно.
Рядом с папой — доктор Куделько в оленьей дохе, купец Гамбург в черной шубе с хорьковым воротником, торговец Скутьев в фетровых бурках и высокой серой барашковой шапке. В этой же шеренге сын Гамбурга — Сережа, восьмиклассник, с выпуклыми котиковыми глазами, в гимназической фуражке без герба…
Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжелый твой труд.
Твоим потом жиреют обжоры,
Твой последний кусок они рвут.
— Да здравствует свобода! Ура-а! Свобода-а-а!
Целуются, и хоть не пасха, но при этом говорят: «Христос воскресе!»
— Сегодня он воистину воскрес! — отвечает папа и энергично пожимает руку.
Сережа Гамбург многозначительно сказал:
— Под весенними лучами солнца — свободы — растаял старый режим…
Вставай, подымайся,
Рабочий народ!
Вставай на борьбу, люд голодный…
Вперед! Вперед! Вперед!..
Хлеба давали все меньше и меньше. В гимназии содрали портрет царя, и начальница плакала. Гриша Дятлов заявил, что он анархист.
— Я видел, вы шли в демонстрации рядом с купцами Гамбургом и Скутьевым. Просто смешно, когда эти спекулянты поют: «Богачи, кулаки жадной сворой…» Они и есть — жадная свора. На фонарь буржуев, как во время Великой французской революции!
Нина не соглашалась.
— У нас бескровная революция, — возражала она папиной фразой, — нам нужен такой строй, как в Англии.
Дома Нина горячо высказывала все то, что ей говорил Дятлов. Государство — это зло. Всякая власть для народа — все равно что для лошади: и телега сволочь, и сани сволочь — всех тащи…
Валерьяна Владимировича выбрали в городскую думу. Он поздно приходил домой.
Многие гимназистки называли себя эсерками, многие записались в партию народной свободы (кадеты), были монархистки, были энесовки (народные социалисты).
Нина никак себя не называла: она еще не знала, кто она. Когда слушала Дятлова и когда тот пел «Черное знамя», у нее внутри клокотало, сердце рвалось наружу, ей хотелось сражаться и умереть за счастье всех угнетенных, всех обездоленных людей на свете. Слушая Дятлова, Нина думала, что она анархистка и люди лишь тогда станут хорошо жить, когда не будет никакой власти.
Гриша дал Нине прочесть Бакунина «Государственность и анархия», но она не смогла одолеть ни одной страницы: так это было неинтересно, а главное — все время думалось совсем о другом.
В город приехал Милюков. Он читал лекцию о Дарданеллах. Валерьян Владимирович вместе с Ниной отправились в городской театр — слушать Милюкова.
Перед началом лекции они пошли за кулисы. Папа почтительно поздоровался с Милюковым, представил Нину:
— Моя дочь, также жаждущая деятельности в партии народной свободы.
Милюков улыбнулся, слегка дрогнув никелевыми усами. Нина поклонилась, пожала пухлую, очень мягкую профессорскую руку.
Тут же, за кулисами, были и взлохмаченный Сережа Гамбург и еще какие-то важные господа в накрахмаленных манишках. Нину и папу Сережа Гамбург устроил в губернаторскую ложу с малиновыми занавесками. Там сидели дамы, пахло духами. Молодые люди в черных смокингах, сияя проборами, чистили для дам апельсины. В ложу вбегал Сережа Гамбург, шептал папе на ухо и убегал обратно.
Раздались аплодисменты: это появился на сцене Милюков. Все присутствующие в ложе поднялись, захлопали, Нина тоже хлопала…
— Милостивые государыни и милостивые государи…
В это время сверху сорвался свист и чей-то отчаянный крик: «Долой Милюкова!..»
Свист. Шум. Шиканье…
— Милостивые государыни…
Сильный свист с разных углов галерки полетел по театру. Свист описывал траекторию — вонзался в люстру на потолке, падал вниз и обжигал лысины партера. Свист пробегал по ложам театра, взрыхлял прически дам, колол розовые мочки (дамы затыкали уши), царапал манишки молодых людей. Свист летел по прямой — толстой струей в лицо Милюкову, а тот не дрогнул. Свист. Профессор держался с достоинством. Он доставал белоснежный надушенный платок из заднего кармана фрака, касался лба, кончика носа и прятал платок обратно…
— …и милостивые государи…
— Во-он! Пошел во-он! Шкура!..
Свист.
Папа, явно возмущенный, нагнулся к дамам, что-то им говорил, но из-за шума ничего не было слышно.
Прибежал Сергей Гамбург и, взволнованный, сообщил:
— Сейчас выведут этих хулиганов. Уже распорядились.
Шум не прекращался. Наверху хлопали двери, как выстрелы. И вдруг сразу стало очень тихо…
— Милостивые государыни и милостивые государи…
Больше никто не перебивал Милюкова. Нина внимательно слушала, но ее клонило ко сну, слипались глаза. Вздрогнула — в ложе смеялись. Она подумала: смеются потому, что она заснула. Смеялись совсем по другому поводу: один из молодых людей, с длинным подбородком, горбоносый, зажал в глазу корку апельсина, точно монокль. Даже папа улыбнулся.
— Не шалите, Надя, — заметила дама, пряча в сумочку перламутровый бинокль.
Нину удивило, что молодого человека зовут женским именем. Надя молча болтнул головой, черные волосы рассыпались по лицу, апельсиновая корка упала. Это тоже всех рассмешило.
— Тш, господа! Неудобно…
Нину опять клонило ко сну. На этот раз ее разбудили громкие аплодисменты. Милюков кончил. Отца не было в ложе.
Нина услыхала, как кто-то со сцены объявил:
— Слово предоставляется учителю гимназии господину Дорожкину.
Она приподнялась на цыпочках и увидела, что на том месте, где только что был Милюков, сейчас стоит папа. Она сейчас же села, от волнения закрыла лицо руками. Валерьян Владимирович обычным теплым голосом, но на этот раз с некоторой дрожью, говорил, что всеми глубоко уважаемый Павел Николаевич нарисовал прекрасную картину будущей свободной России и что он, Дорожкин, вполне разделяет взгляды почтенного профессора — взгляды лучших людей нашей многострадальной родины, но кое с чем он не согласен. Возможно, он ошибается, но ему кажется, что нам не нужны Дарданеллы, и сейчас, когда наши сыновья и братья истекают кровью на полях Польши… (Нина увидела, как течет кровь, словно вода по канавам.) Папа сказал, что война для нас гибельно-бесплодна, в этом надо иметь мужество сознаться и как можно скорей прекратить это кровавое пиршество дьявола… Одна из дам, самая красивая и самая молодая, с пушком на верхней, немного изогнутой губе, блеснула черными мохнатыми глазенышами, произнесла с еврейским акцентом, пожимая плечиками:
— Учитель Дорожкин против. Он не хочет Дарданеллы, — и растопырила ручки.
Это была одна из тех счастливых дам, которые всегда ходят окруженные стайками молодых людей. Что бы эти счастливые дамы ни говорили — всегда пикантно, остроумно и смешно. Сейчас тоже все неудержимо засмеялись.
Нина покраснела, немедленно ушла. Навстречу шел улыбающийся папа.
— Ты куда? — спросил он. — Мы еще с тобой, Нинок, пойдем на банкет. Чествовать Павла Николаевича.
— Я никуда не пойду, — сказала она грубо. — Я хочу спать.
Нине показался отец жалким и неприятным.
Утром папа вошел к ней в комнату.
— Ты не спишь? Почему ты вчера ушла расстроенная?
Она ему рассказала о разговоре в ложе, добавила:
— Противные буржуйки. Я их ненавижу.
Папа не возражал, заметил задумчиво, что вчера на банкете он тоже кое в чем убедился и что Сергей Митрофанович был прав, когда его предупреждал.
В чем был прав Сергей Митрофанович, папа так и не сказал, но с этого дня чаще сидел по вечерам дома. Опять приходил Сергей Митрофанович. Они пили крепкий чай, играли в шахматы.
Раз папа взял гитару и попросил Нину:
— Ну-ка, дочурка, споем.
Нина уселась в уголке дивана, подогнув ноги, перебросила через плечо каштановую косу с синей ленточкой на конце, с очень серьезным лицом подтягивала:
Укажи мне такую обитель…
Где бы русский мужик не стонал…
После смерти Пети они пели впервые.
По комнате шагал Сергей Митрофанович, заложив назад руки. У него были сутулые плечи и впалая грудь…
Первого мая папа не пошел на демонстрацию: он плохо себя чувствовал, лежал в кровати. Нина тоже не хотела идти.
Но такой чудесный день… Солнце. Золотой оркестр. На улице так много музыки… Нина не усидела в комнате.