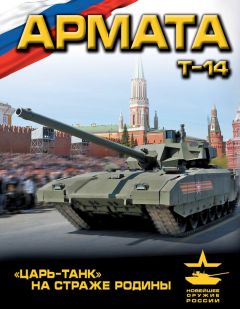XXVII
Зной разгорается. Невидимый, мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, площади, набережная, мол, дворы, шоссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шея без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на бойне, кровь темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.
На пароходах, в каютах, в кубрике, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении — всё они, с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.
Неподвижно перевешиваются через парапет набережной, и когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут серые стаи рыб.
Только из центра города несутся частые выстрелы и торопливо татакает пулемет: вокруг собора засела грузинская рота и геройски умирает. Но и эти замолчали.
Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шоссе, на склонах в ущельях — всё повозки, люди, лошади. Суета, восклицания, смех, гомон.
По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.
— Победа, товарищи, победа!!
И как будто нет ни мертвых, ни крови, — буйно-радостно раскатывается:
— Урра-а-а!!
Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.
А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки.
Больше всего налетело матросов — они тут как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клёш, круглые шапочки, и ленточки полощутся, и зычно разносится:
— Греби!
— Причалива-ай!
— Кро-ой!!
— Выгребай с энтой полки!
Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую шляпу, обмотал морду вуалью, другой — под шелковым кружевным зонтиком.
Суетились и солдаты в невероятных отрепьях, с черными, босыми, полопавшимися ногами; забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей.
Вытаскивает один из картонного короба крахмаленную рубаху, растопырил за рукава и загоготал во все горло:
— Хлопьята, бачь: рубаха!.. Матери твоей по потылице...
Полез, как в хомут, головой в ворот.
— Та що ж вона не гнеться? Як лубок.
И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.
— Ей-бо, не гнеться! як пружина.
— Тю, дура! це крахмал.
— Що таке?
— Та с картофелю паны у грудях собе роблють щоб у грудях у их выходыло.
Высокий, костлявый — почернелое тело сквозит в тряпье — вытащил фрак. Долго рассматривал со всех сторон; решительно скинул тряпье и голый полез длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава — по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе застегнул, а книзу вырез. Хмыкнул:
— Треба штанив.
Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельевое отделение, вытащил картон, — в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул:
— Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?
Но Хведору было не до того, — он вытаскивал ситец бабе и ребятам — голые.
Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.
Хведор глянул и покатился:
— Хлопьята, гляньте! Опанас!..
Магазин дрогнул от хохота:
— Та це ж бабьи портки!
А Опанас мрачно:
— А що ж, баба нэ чоловик?
— Як же ты будешь шагать, — разризано, усе видать, и тонина.
— А мотня здоровая!..
Опанас сокрушенно посмотрел.
— Правда. То-то дурни, штани з якой тонины роблять, тильки материал портють.
Вытащил из коробка всё, что там было, и стал молча надевать одни за другими, — шесть штук надел; кружева пышным валом повыше колена.
Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты — к окнам. По площади, что было силы, бежали матросы, стараясь спасти захваченное. Эскадронцы, шпоря лошадей, нещадно пороли их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица, — кровь брызгала.
Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки — невтерпеж стало — рассыпались кто куда.
Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист.
Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строгости странно не соответствовала одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие — в крахмаленных, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках — на груди стояли коробом. Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странно торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле, с рукавами до локтя; густо белели выше голых колен кружева.
Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папахах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы.
Кожух постоял, всё так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.
— Товарищи!
Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью: «Вперед!.. в атаку!..»
— Товарищи! Мы — революционная армия, бьемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю хто дал?
Он замолчал и ждал ответа, зная, что не будет ответа: стояли в строю.
— Хто дал? Совитска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали, — пошли грабить.
Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:
— Я, командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог кажному, хто взял хочь нитку.
Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан; штаны висели клочьями; как блин, обвисла грязная соломенная шляпа.
— У кого хочь трошки есть награбленного, три шага вперед!
Прошла тягостная секунда молчания — никто не тронулся...
И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Немного осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые кто во что горазд.
— Що взято у городе, пойдет в общий котёл, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Всё!
Вся передняя шеренга шевельнулась и стала класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмаленные рубахи, дамские кофточки, лифчики, сложили на земле кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны, и тоже стоял, костлявый и голый.
Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.
Кожух подошел к фланговому.
— Лягай!
Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, и солнце жгло ему голый зад.
Кожух ржаво закричал:
— Лягайте вси!
И все легли, подставляя зады и спину горячему солнцу.
Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропил нас?» Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?
А теперь покорно лежат голые.
И волна силы и мощи, подобная той, что взносила его, когда честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия — он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: «Хлопцы, завертывайте назад, до козаков, до офицеров», — его бы подняли на штыки.
И опять ржавый кожухов голос разнесся над лежавшими:
— Одевайсь!
Все поднялись и стали одеваться в крахмаленные рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.
Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.
В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом; песни родятся близко и далеко, гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...
Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать.
Над городом синевато озаренный свет электрического сияния.
Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э-э, будь здорова, бабуся! Бабо Горпино! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены, — из своей же станицы. Котелки подвешены, да в котелках, почитай, вода одна.
А баба Горпина:
— Господи, царица небесная, що ж воно таке?! Йшлы, йшлы, йшлы, а ничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство — пожрать ничого не може дать? Якое же то начальство... Анки нэма. Дид мовчить.