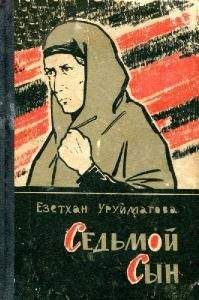Мать подошла к кровати и сдернула с его плеч одеяло. Мальчик бесшумно, но горько плакал, слезы обиды душили его, и он не мог говорить.
— Еще этого не хватало… Я как мать имею право спросить у тебя, где ты был… Я обязана знать, где ты бываешь… Ты что ждешь, когда я попрошу у тебя прощения?
Мальчик продолжал плакать, не умея ничего ответить. Мать выхватила из-под подушки свернутую тетрадку и нервно перелистала ее.
На первой странице тетради (тетрадь была новая) шатким детским почерком, рукой ее сына, аккуратно было выведено:
«18 июнь. Общий сбор пионерского отряда № 4, школы № 2.
Слушали: О зверствах… доклад вожатого….
Постановили»…
Что постановил отряд — неизвестно. Только двумя строками ниже почерком более уверенным было написано:
«Солдат войск ООН! Находясь в Корее, в этих диких горах и лесах, ты защищаешь великую честь всех наций, преграждаешь путь коммунизму из Азии за океан… Война идет жестокая, и ты должен во имя спасения своей жизни убивать как можно больше азиатов. Рука твоя не должна дрожать, если перед тобой даже мальчик, девочка или старик. Убивай! Этим ты спасешь себя от гибели и выполнишь долг солдата ООН».
Анна, как вкопанная, стояла у кровати сына, позабыв обо всем… Слово «убивай», казалось ей, сейчас оживет и завоет тревожной сиреной, и наступит снова в ее жизни то страшное одиночество, что в 25 лет сделало ее седой.
«Убивай, — прочла она снова. — Рука твоя не должна дрожать, если перед тобой даже мальчик…»
Она инстинктивно опустилась на колени перед кроватью сына и обняла его за плечи, будто защищая от чего-то страшного…
Мать знала, что сын ее — председатель совета отряда, бывает на пионерских сборах. Она не мешала ему, только говорила: «Покушай, потом пойдешь».
— Мальчик мой, — прошептала Анна, прижимаясь щекой к щеке сына, — мой мальчик… Я всегда так занята… Прости, — неожиданно сорвалось с ее губ.
— Я не соврал тебе, мама, — прошептал мальчик и прижался к матери. — Вожатый говорил… Про Корею говорил… Говорил, что…
Мальчик посмотрел матери в лицо и запнулся. Мать плакала. Указательным пальцем сын раздавил на ее щеке крупную прозрачную слезу…
— Завтра утром, — улыбаясь и плача, говорила она, — пойдешь со мной в первую бригаду и расскажешь о вашем собрании, расскажешь, что говорил вам вожатый… Тогда… помощник ты мой, — произнесла она ласково, — мои бригадиры не будут спорить о том, кому работать на холмах, а кому — на комбайне.
— Хорошо, — радостно согласился мальчик, — расскажу…
— А потом, — перебила его мать, — ты перепишешь начисто свой протокол от 18 июня и под словом «Постановили» напишешь, что твой отряд будет помогать первой бригаде на холмах… На наших холмах, в этих горах и лесах, помни, мальчик мой, никогда не должна больше ступать нога смерти…
— Спи… Закрой глаза, — шептала она. — Спи, ночь ушла уже далеко…
Мальчик засыпал. Она осторожно высвободилась от его рук и погасила свет. Рассветало. Бледнели звезды на небе. Предрассветный ветер приносил с холмов запах созревшего колоса и бодрящие звуки жизни.
[20]
I
Когда стрелковое подразделение старшины Алексея Уртаева вошло в немецкую деревню Бурно, был май месяц. Дождь только что прошел, и его крупные капли густым жемчугом висели на ветках деревьев.
Хотя канонада войны уже утихла и был объявлен мир, земля все еще лежала поруганная. Искалеченная гусеницами танков, вывороченная бомбами, опутанная ржавой проволокой, она дымилась еще кровью незаживших ран. Однако жизнь уже пробуждалась. Воробей чирикнул на ветке дерева. Муравей хозяйственно сновал, строя себе новый дом. Из-под развалин забора, приютившись за осколком снаряда, ажурной желтой головкой качал одуванчик.
Небольшой крестьянский домик на окраине деревни, в котором расположилось на ночлег подразделение старшины Уртаева, был пуст и холоден. В настежь раскрытые двери со стороны врывался сквозняк, вызывая в сердцах солдат томительную тоску о родной земле и теплом доме…
Война всегда врывается в жизнь со стоном. Срывает двери с петель. Гасит в окнах свет. Тушит огонь в очагах. Замолкает звонкий смех детей, и лица покрываются морщинами старости. Матери седеют за одну ночь, недоуменный испуг и упрек застывают в глазах стариков…
Утомленные долгим переходом, солдаты уткнулись головами друг в друга и тепло дышали. Не спали только старшина Уртаев и комсорг подразделения сержант Сорокин. Они прошли бок о бок нелегкий путь от Моздока до немецкой деревни Бурно. В минуты короткого отдыха старшина и сержант поведали друг другу много дорогих тайн.
Уртаев рассказывал о родном городе Орджоникидзе, а Сорокин о Моздоке, где он родился и окончил десятилетку…
— Ложитесь, товарищ старшина, я подежурю…
— Нельзя, вдруг кто из начальства заглянет, неудобно, — возразил старшина и положил на стол буханку хлеба.
— Кушай, — обратился он к Сорокину, но сержант, поглядев на хлеб, вожделенно сказал: — К нему бы горячего чаю…
Оба, старшина и сержант, одновременно глянули в угол, на разрушенную печку, и замолчали. Старшина подсел к столу, потянулся и в изнеможении опустил голову на стол.
Неповторимо-сладки доли секунды, когда смертельно усталый человек, смежив ресницы, спит бодрствуя. Как отзвук далекого эха дошел до сознания старшины голос товарища.
— Смотрите, товарищ старшина… ребенок… девочка… Но старшина не мог открыть глаз, хотя приподнял голову.
В дверях стояла девочка лет… Трудно было определить возраст. Ее маленькое личико было сморщено, под глазами висели прозрачные серые мешки. Волосы, как грязная пакля на старой кукле, торчали во все стороны. Какая-то серая тряпка, наподобие халата, прикрывала ее грязное тело.
Уртаев, еле превозмогая сон, поднял, наконец, голову и, не открывая глаз, пробормотал:
— Что? Какая девочка?..
Сержант Сорокин молча шагнул к старшине и, толкнув его в плечо, прошептал:
— Девочка, товарищ старшина, смотрите, вот…
Уртаев нехотя поднялся, ознобно повел плечами, открыл глаза. Увидев у порога неподвижно стоявшего ребенка, он шагнул к нему. Но в это время девочка отделилась от двери и пошла вперед. Она приблизилась к столу и остановившимся взглядом уставилась на хлеб.
— Голодная, — прошептал сержант.
Старшина тяжело опустился на свое место.
Девочка подняла худую грязную руку и погладила хлеб…
— Быстро, сержант, разогреть чайник…
Старшина схватил девочку, посадил ее на колени и разрезал буханку хлеба пополам.
— Кушай, сейчас тебя чаем напоим, — смущенно промолвил он и большой теплой ладонью погладил холодные щеки девочки.
Через полчаса старшина и сержант прислуживали маленькой гостье, угощая ее горячим сладким чаем.
— Вот, брат, когда мне немецкий язык понадобился, — с досадой проговорил старшина. — В институте мне этот язык не давался… Как с ней разговаривать, сидим, будто немые… А впрочем, она у нас сейчас заговорит…
Старшина расправил хрустящую, из-под галет, бумагу и, обняв девочку левой рукой, правой — принялся рисовать.
Домик. Кружевная струя дыма над трубой. Вокруг домика — деревья. Ромашки непропорциональной величины…
— Вот видишь, — пририсовав к ромашке собачку, — молвил старшина. — А это, вот — зайчик, ушки, вон какие…
Старшина, глянув на сержанта, смутился и спросил:
— А может, у немецких зайцев ушки короткие?
— Не знаю, как ушки, товарищ старшина, а ножки у немецких зайцев теперь короткие…
Оба засмеялись. Сержант посмотрел на девочку и сказал:
— А дети — везде одинаковые.
Девочка вдруг перестала жевать, вытянула шею, и старушечье лицо ее улыбнулось. Она повела грязным пальчиком по зайчику и снова продолжала жевать.
— Ее бы, товарищ старшина, русским буквам научить, — проговорил сержант, подсаживаясь к столу.
— А ну, смотри, Гертруда (сержант всех немецких женщин называл Гертрудами), вот какая наша буква. Он вывел букву «А».
— Отчего же, можно научить, — весело сказал старшина, отобрав у сержанта карандаш.
Большими красивыми буквами старшина вывел перед девочкой слово «Ленин». Но девочка молча продолжала жевать, прижавшись к широкой груди старшины.
— Эх ты, — досадливо молвил он, — мала, ничего не понимаешь. Запоминай наши русские слова…
— Да, — вставил сержант, — верно. От того, как они воспримут наши слова, будет зависеть вся их дальнейшая жизнь…
— Жизнь… Жизнь, — повторил старшина, выводя перед девочкой слово «Жизнь»…
— Не смогу, — огорченно промолвил он. — Немецкого языка не знаю, а то бы я им вколотил русскую азбуку.
За таким занятием застал майор Сазонов своих подчиненных. Делая ночную поверку подразделений, майор вошел в комнату. Увидя старшину с ребенком на коленях, он нахмурил рыжие кустистые брови и громко сказал: