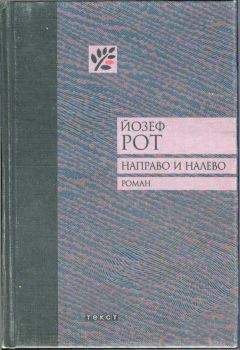В саду между деревьями разбиты клумбы, на них цветут резеда, анютины глазки, желтые ноготки и душистый табак. А над клумбами на тонких круглых палках насажены стеклянные разноцветные шары. Что ни клумба, то другой шар. И каких только шаров нет! Темно-зеленые, красные, синие, оранжевые, голубые, ярко-желтые. Все они блестят, переливаются, и когда в ясный день луч солнца, пробившись сквозь густую листву сада, упадет на такой шар, он так и запылает, заискрится, а в шарах потемнее, как в зеркале, станут видны деревья, соседние клумбы и открытая веранда докторского дома.
Недавно, когда я с конопатым Сашкой Бобырем заходил к Лазареву, Сашка бросил через григоренковский забор камень и угодил в самый близкий светло-синий шар. Шар лопнул, точно электрическая лампочка.
Григоренко вместе с горничной гнался за нами до самого бульвара и остановился только перед канавой, через которую ему трудно было прыгнуть.
Ох и кричал же он тогда! Мы были уже у самой скалы, а все еще слышали его крики:
– Босота! Рвань голодная! Воры!
Мы подошли к докторскому саду со стороны Нового бульвара. Сквозь щели забора пробивался свет.
Мы подкрались к забору. Я первый прижался к щели между двумя досками и увидел освещенную веранду.
У доктора гости. И какие!
Около низенького каменного барьерчика на веранде стоял ломберный столик для карточной игры.
За столиком друг против друга расселись доктор, его жена, худая пани Григоренко, в темном блестящем платье, наш бородатый директор Прокопович – и кто, думали бы вы, четвертый? Рыжеволосый поп Кияница! Кого-кого, но Кияницу я никак не думал увидеть у Григоренко.
Возле застекленной двери, ведущей с веранды в дом, на высокой тумбочке горела тяжелая лампа под розовым абажуром.
Доктор с гостями играл в карты. Возле каждого – мелок: они записывали мелком, кто у кого сколько денег выиграл.
Поп Кияница сидел глубоко в кресле, протянув под столом свои длинные, обутые в скрипучие чеботы ноги. Он даже рясу расстегнул от волнения – видно, очень старался обыграть усатого доктора.
Прокопович сгреб со стола колоду карт. Записав что-то мелком на сукне, он перетасовал карты и ловко разбросал их одну за другой доктору, его жене и попу. Доктор Григоренко сложил свои карты веером. Я увидел, как сверкнуло на его толстом пальце обручальное кольцо. Он почесал картами нос, подмигнул сидящему сбоку попу и гулко, на всю веранду, пробасил:
– Пики!
А где же Котька? Ага, вот он где!
Через приоткрытую дверь я увидел, как он шнырял по гостиной в своей гимназической курточке. Мне было хорошо видна обтянутая красным плюшем мебель докторской гостиной: низенькие мягкие кресла, кушетка, маленький столик на бамбуковых ножках.
Котька взял с этажерки какую-то толстую книгу и сел на кушетку.
Прошла через гостиную горничная, неся перед собой тяжелый дымящийся самовар. Она понесла его в столовую. Скоро, наверное, туда же уйдет чаевничать доктор со своими гостями.
– Отойдем! – прошептал Куница и потянул меня за полу рубашки. Мы перешли на другую сторону проулка. Отсюда тоже можно было разглядеть, что делается на докторской веранде.
Вон, согнувшись над картами, сидит доктор, а наискосок от него трясет своей бородой Прокопович. Он опять что-то записывает мелком на сукне. Видно, снова выиграл. Какой он сейчас тихий, ласковый, а вчера орал на меня, ничего слушать не хотел. Ясно, он будет заступаться за Котьку, раз обыгрывает его отца.
Я следил за всей этой компанией и еще больше ненавидел Котькиного отца и его приятелей.
Ведь этими толстыми, мясистыми руками еще сегодня утром доктор Григоренко там, в крепости, трогал стынущие веки застреленного человека, которого он сам же выдал петлюровцам. Как он мог теперь шутить, спокойно смеяться, играть в карты?
Юзик Стародомский тоже, не отрываясь, глядел на веранду.
– Подождите меня тут, – вдруг, повернувшись к нам лицом, сказал он и, мигом перепрыгнув через глиняный лазаревский заборчик, исчез в темноте. Скоро Куница явился, держа в руках четыре квадратные черепицы. Я знаю, откуда их он выдрал: такими красными черепицами огорожены лазаревские клумбы.
– Бубны! – донеслось с веранды.
– Вот постойте, мы дадим вам сейчас бубны!
Одну черепицу Юзик протянул Маремухе, другую – мне.
Мы вышли на середину проулка: отсюда сподручнее бросать! Я видел покатую крышу и головы сидящих за ломберным столиком. Кто-то засмеялся. Должно быть, поп. Скрипнул стул. Зазвенела посудой горничная.
Я слышал стук своего сердца. Ноги у меня стали легкие-легкие.
– Бросаем? – заглянул мне в глаза Куница.
Отступать некуда. Кивнув головой, я размахнулся.
Куница бросил раньше меня. Рядом, совсем над ухом, засвистела его плитка.
Он послал вдогонку вторую – слышно было, как, пробивая листву старой яблони, все они с треском и звоном упали на веранду. Я видел – покачнулась и ярко вспыхнула лампа. Отсвет пламени длинной полосой пробежал по саду, точно погнался за кем-то. Должно быть, мы разбили стекло.
Женский крик: «Пожар! Горим!» – провожает нас. А мы не чувствуем под ногами ни круглых булыжников, ни проросшего в них влажного подорожника, задыхаясь и толкая друг друга, мчимся к заветной бульварной канаве.
Перепуганный Петька Маремуха подбежал к нам уже на бульваре.
По аллее бежать опасно: можно наткнуться на петлюровский патруль.
Мы свернули влево и осторожно, вытянув, как слепые, руки, ощупывая каждое встречное дерево, стали пробираться к скале.
И только под самой скалой, возле белой тропинки, которая, извиваясь вдоль обрыва, ведет к центру города, Куница остановил нас. Мы упали на траву.
Вокруг темно. Очень темно.
– Кто кричал «пожар»? – спросил у меня Маремуха.
Не отвечая, я думал: «Ну и кашу мы заварили! Теперь, если Петька выдаст нас, все пропало! А вдруг в самом деле от разбитой лампы загорелся дом Григоренко?»
Я очень ясно представил себе, как багровые языки огня, извиваясь, лижут стены докторского дома, потихоньку поджигают деревянную крышу веранды, пробираются через оконные рамы в дом… А вокруг бегают испуганные доктор с женой, Котька, Прокопович, поп в длинной рясе и швыряют в огонь что попало: вазоны с цветами, стеклянные шары, садовые лейки… Но унять огонь нельзя. Дом пылает все больше и яростнее. Трещат балки, крыша с грохотом валится вниз, и вместо красивого, похожего на маленький замок дома остается груда дымящихся развалин. А утром по всему городу нас, поджигателей, разыскивают вооруженные пикеты петлюровцев…
Отдышавшись, мы тихонько побрели в город. Вышли на Тернопольский спуск.
Всюду погашены огни.
Белая мостовая тянулась вверх, к Центральной площади. Пивная Менделя Баренбойма была закрыта длинной гофрированной железной шторой.
Тихо. Никого.
Лишь далеко за мостом стучали шаги какого-то запоздалого прохожего.
Я подумал: «А что, если пойти к городской ратуше?» Там, вверху, в будочке, день и ночь сидит дежурный. Если в городе пожар, он дает сигнал. Тогда сразу начинается суета, под ратушей открываются широкие двери пожарной команды, на улицу вылетают, стуча копытами, серые кони, запряженные в платформы с насосами и красными бочками. А на линейках мчатся пожарные с блестящими топориками.
Непременно надо подойти к ратуше. Если у Григоренко загорелась веранда, дежурный обязательно заметит огонь.
Мы делаем круг и подходим к ратуше. Двери пожарной команды закрыты.
Минут десять мы ждем у ратуши: вот-вот раздастся оттуда сверху: «Пожар! Горит!» Но там тихо.
Сидит в будочке над сонным городом одинокий пожарник, считает от скуки звезды и, должно быть, ничего, кроме крыш, мокрых от росы, да пустых уличек, не видит.
Большие стрелки на часах ратуши показывают пол-одиннадцатого. Ой, как поздно! Тетка, наверное, уже легла и калитку закрыла…
Калитка в самом деле была на замке. Во двор я попал, перебравшись через забор. Тетка открыла дверь и сразу же, спросив, где я был так поздно, легла снова спать.
А я долго не мог уснуть. Мне казалось: вот-вот придут за мной петлюровцы и потащат в тюрьму. А самое главное, ведь защищать-то меня будет некому. Вот если бы дома был отец – другое дело.
Но отец далеко.
Несколько лет назад, когда мы жили в другом городе, мой отец пил. И крепко пил. Запоем.
Его не выгоняли из типографии потому, что он умел набирать по-французски, по-гречески и по-итальянски. А как раз в те годы типография получила много работы из Одессы на разных языках.
– Без меня им не обойтись, – ухмылялся отец, рассказывая матери об этих заказах.
И в самом деле, заказы эти были доходные, хозяин на них хорошо наживался, и ему поневоле приходилось мириться с пьянством отца.
Я никогда не видел, чтобы отец пил дома.
Обычно он напивался до беспамятства где-то в городе, а потом, пьяный, бродил по улицам, толкая прохожих и опрокидывая уличные урны.
К нам домой хозяин типографии присылал посыльного. Не переступая порога, посыльный спрашивал: