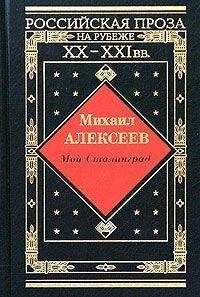Ознакомительная версия.
Меркидон искал глазами, на что бы еще обратить внимание, но вспоминал, что пора выгонять коров, что уже полдень, солнце пошло под гору.
В следующий раз мир его образов был уже иным. Отец привозил с поля стручков. Меркидон вылущивал стручки, часть гороху поедал – лакомство для мальчишек необыкновенное, недаром они еще с весны примечают, где сеется горох, чтобы потом наведаться к нему. Так вот, часть, значит, Меркидон поедал тут же, а часть оставлял. Горькие лопухи на другой день силою мальчишеской фантазии превращались в грачельник, цветки на нем – в грачиные гнезда. В каждое из них Меркидон клал по три-четыре горошины. Они уж перестали быть горошинами, а превратились в грачиные яйца. И сам Меркидон был уже теперь птицей, руки его – крыльями. Он махал ими, паря над лопухами, и с утра до вечера за той же глухой стеной избы можно было слышать птичий грай: Меркидон научился неплохо подражать грачу и голосом.
Птичий крик был то веселый, то тревожный – это когда над грачельником появлялся всамделишный коршун (не важно, что коршун появлялся вовсе не за Меркидоновыми горошинами, ему виделась на земле другая, более реальная цель: клушки водили в траве свои выводки), то зовущий, то негодующий – это когда Меркидону пытались мешать другие мальчишки, особенно Васька, тот самый Васька, который впоследствии спорил со своим другом Петькой насчет небесных светил. Васька, как известно, не терпел никаких фантазий. Мир для него в ту пору был, как вон и для того парящего в небе хищника, наполнен исключительно вещами реальными, такими, которые можно потрогать, подержать в руках, а еще лучше, если вещь съедобная, съесть ее.
Меркидоновы крылья на время вновь становились руками, а руки сжимались в кулаки. Он яростно набрасывался на Ваську, и тот принужден был ретироваться.
Иногда на подворье Люшней приходил Петька – этого Меркидон не прогонял. Петька немедленно включался в игру, дополнял созданный Меркидоновой фантазией мир своим собственным, столь же красочным и захватывающим, и Меркидону было веселее вдвойне.
В десять лет началось очарование лесом. Меркидон и сам не мог бы сейчас припомнить, как, с чего это началось. Может быть, с одного печального для него события. Меркидон очень любил собак. Впрочем, другие ребята едва ли уступали ему в этом: думается, что именно дети первыми сделали важное открытие относительно того, что собака – лучший друг человека. Лучший и преданнейший. Что касается Меркидона, то он мог прийти к такому заключению из собственных наблюдений.
В соседнем дворе вот уже много лет жила собака по кличке Жучка. Она ревностно оберегала этот двор, хотя, казалось, могла бы этого и не делать: ее никто не кормил там. Меркидоновы соседи принадлежали к тому немалочисленному сословию людей, которые всерьез полагают, что собаку надобно держать, но вовсе не надо кормить, она-де сама найдет себе еду. Любой человек тотчас сбежал бы с этакого двора, а собака не бежала. Она защищала его, готова была растерзать в клочья любого, кто вознамерился бы войти в этот двор с недоброй целью. Объяснить это можно, по-видимому, лишь исключительно собачьей преданностью.
У Меркидона с его рыжим псом Трезором была любовь взаимная. Маленьким щенком взял его Меркидон у Маркеловых. Да не просто взял, а купил за самую дорогую в тридцать третьем году цену – за целую ковригу настоящего ржаного хлеба, которой хватило бы всей семье Люшней на три дня. Был Меркидон жестоко выпорот отцом. Отец грозился утопить щенка, но Меркидон вовремя укрыл его, в потайном месте подкармливал молоком, и щенок вырос великолепным псом, в полную меру оценив заботы молодого хозяина: в присутствии Трезора никто бы не рискнул тронуть Меркидошку хотя бы одним пальцем.
Случилась беда. Трезора покусала бешеная собака. Старший Люшня поглядывал уж на двустволку, но пес не стал ждать своей погибели, в тот же день убежал куда-то. Его не было около месяца. А потом прибежал – кожа да кости. Но живой! Позже сказывали люди, что видели эту собаку раз или два в лесу, паслась, говорят, на полянах, точно овца. Кто бы мог из них подумать, что среди множества лесных трав собака отыскивала те именно, какие только и могли спасти ее от погибели!
– Трезор, милый! – обнимал своего друга Меркидон, и из глаз его текли слезы, хотя лицо смеялось.
Теперь Меркидон знал, что у них с Трезором есть могучий союзник – это лес. Он мог бы знать это и раньше, потому что лес не одного Трезора частенько спасал от голодной смерти. Среди лесных трав и кореньев оказывалось столько съедобных, что мальчишки из Выселок в иную пору только ими и питались.
Сытый и ленивый, ты можешь равнодушно пройти мимо вон того гибкого высокого стебелька, разбросившего в разные стороны зубчатые, резные, тоненькие-тоненькие листочки. Твоим ноздрям ничего не может сказать этот острый, пронзительно острый залах, неожиданный для этого хрупкого с виду растения. А для Меркидона и его друзей – это дягиль, вкуснейшее лакомство. Сними с его стебля кожицу, донеси до зубов, сочный хруст, обилие кисло-сладко-горьковатой влаги наполнит рот, и большего наслаждения, кажется, нельзя уж и придумать. Только надо знать, следить надо, чтобы застать дягиль до цветения, чтоб не успело растение отдать свою драгоценную кровь семени.
Сытый и ленивый, ты наклонишь вишневое дерево, сорвешь и бросишь в вялый свой рот несколько ягод и отойдешь прочь. Тебя не покличет, не поманит, не позовет к себе вон тот прозрачно-золотистый натек на атласной кожице вишневого ствола. Ты еще можешь подумать, что это смола, и шарахнешься от нее, чтоб не испачкать платья. А это вовсе и не смола – куда там смоле! Это вишневый клей. У него нет вкуса. У него нет и запаха для тебя. Но для Меркидона и его друзей у него есть и вкус, и запах. Причем то и другое непередаваемо нежны, непередаваемо – потому что вкусу и запаху не придумано еще имен. Мы можем лишь сказать, что пахнет малиной или там смородиной черной, а какими словами назвать сами эти запахи, не знаем.
Сытый и ленивый, прогуливаясь по весне в березовой роще, ты можешь, потехи ради, поковырять перочинным ножичком в белоснежной коре сказочно удивительного дерева. Ковырнешь – и пошагаешь дальше, не увидишь даже, как из сделанной тобою ранки живою кровью заструится опять же золотистый сок. Тебе бы припасть губами к этому божественному источнику, и ты бы весь свой век не смог забыть того блаженства, которое бы испытал, испив из этого источника.
Да что береза! Ты вот содрал с молодой ветлы лыко, идешь и беспечно размахиваешь им, отпугиваешь комаров от своего равнодушного чела и не знаешь того, что можно было бы полизать обнаженную часть ветлы – как же она сладка!
Ты сыт и потому бесконечно беден, а Меркидон ненасытен в своих мальчишеских открытиях, и потому он бесконечно богат. Любые деревья для тебя просто лес – и ничего больше. Для тебя нет березовой рощи, нет дубравы, нет соснового бора, не знаешь ты, где растет ольха, не знаешь и того, что из молодой краснотелой ольхи можно зимою смастерить юлу – длинную стреловидную палку, – и пускать ее под снежные сугробы. Необычайно скользкая, она пронзает снежный пласт длиною в сорок метров к великой радости деревенских ребят.
Выруби начисто лес, и исчезнут на земле все те удивительные запахи, на которые так щедра наша планета, может быть, единственная среди всех остальных планет.
Ко всему следует добавить, что именно в лесу, а не где-нибудь еще Меркидон встретил свою Глашу. Встретил на дальней просеке, куда обычно девчата не решаются ходить. Но Глаша была не одна, а с подругой. Они бежали от кого-то, может быть, от пригрезившегося им волка, и на бегу столкнулись с Меркидоном. Взвизгнули от обуявшего их ужаса, у чернявой и круглолицей – то была Журавушка – глаза как-то разбежались в стороны, брови метнулись вверх и вразлет, она тяжело дышала, что-то беззвучно шепча, вероятно, молитву. А Глаша прятала свое лицо и только тихо твердила:
– Дурной... какой же ты дурной, Меркидон!
Оказалось, что, гуляя по лесу, девчата заблудились.
Меркидон вывел их самым коротким путем на луга, и они, завидя вдали Выселки, точно птицы, выпущенные из рук человека, встрепенулись, вспорхнули и пустились прочь от Меркидона. До него долетал лишь девичий хохот.
В ушах Меркидоновых теперь часто звучал Глашин голос:
«Дурной... какой же ты дурной».
У одного останутся после встречи с любимой ее глаза – чаще всего именно глаза, у другого – ее походка, а вот у Меркидона – ее голос. И как было бы славно, если б он мог слышать этот голос сегодня, завтра, послезавтра, каждый день, каждый час, каждую минуту – слышать всегда!
Большое, самое большое счастье нередко кажется звездою – далекою и потому недосягаемою. Во всяком случае, Меркидон долго не решался посылать сватов. Может быть, и вовсе не решился бы, не выручи Журавушка. Бесстрашно подскочила к нему как-то вечером и прямо выпалила: «Глаша любит тебя, Меркидон! Слышишь? Эх ты, медведь!» – и убежала. Меркидон, потерянный, потрясенный, долго еще стоял на одном месте. Прямо от клуба пошагал потом в лес и бродил там до самого рассвета. Слышали люди, что он пел в лесу. Что уж это была за песнь – никто не знал, но пел!
Ознакомительная версия.