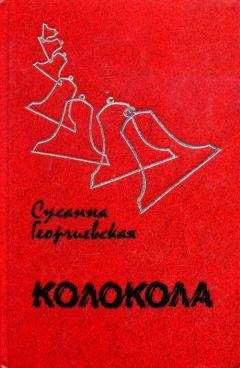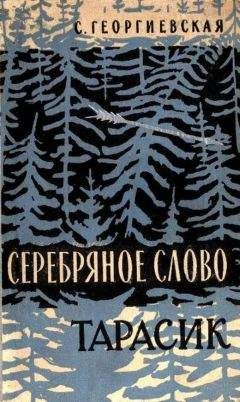— Ни в коем случае, — сказала она и с достоинством сунула в карман парикмахера рубль (чаевые).
— В толк не возьму — вас, может, мобилизовали? — спросил он шепотом. — Но разве девушек нынче мобилизуют?
— Нет. Я еду по вызову к одному парнишке. На острова. Слышали Санамюндэ? Остров такой.
— Понятия не имею. А разве на острова пускают только подстриженных ежиком?
Пока они вели этот в высшей степени содержательный разговор, волосы Киры вопили из урны: «Мы тебя делали похожей на девочку-итальянку! Кое-кто дотрагивался до нас, говорил: «Кирюшка, у тебя красивые волосы»... Прядь спускалась тебе на лоб, ты так лихо ее откидывала!..»
— До свиданья. Большое спасибо, — сказала Кира.
— Счастливо доехать. А волосы — жаль... Ну что ж... Захаживайте, когда вернетесь с вашего Санамюндэ.
— Ополоумела!.. Мать, гляди, что она выделывает! Обкорналась, как есть обкорналась, — сказал Иван Иванович, моя руки над раковиной и с удивлением вглядываясь в изменившийся облик дочери.
— Папа! Ты все ворчишь и ворчишь. Вернулся из Киева и почему-то никак не можешь угомониться. Кто-то тебя допек, а домашние виноваты.
— Что верно, то верно, — подхватила Мария Ивановна. — Как зверь... Ну прямо как зверь...
— Мастер Зиновьев, — певуче сказала Кира, поняв, что дотронулась до оголенных электрических проводов, — поскольку я ваш собственный отпрыск, непрактично меня травить. Сами же родили и сами же измываетесь. Нехорошо!..
— Ближе к делу! Может, ты все ж таки объяснишь, что случилось? Стригущий лишай?.. Мигрени?.. Зачем ты себя изуродовала?
— А я здорово себя изуродовала?
— Ого! Еще как.
— Это я для идеи, папа... Видишь ли, в городе Лауренсе все студенты ходят подстриженными. Им выдают специальные шапочки с козырьком. Студенческие... Одним словом — как в старину.
— Город Лауренс?.. Какой такой Лауренс?
— Ты знаешь. Просто забыл... Наш самый старинный университетский город. С лучшими традициями и профессорами.
— Ну допустим... И что?
— А то, дорогой, что я бы хотела учиться дальше. Ты тоже этого очень хотел.. Я просила тебя, умоляла, — помнишь? — «поговорить с профессором»! Ты не вник... Но ведь другие просят ради детей... И вот мне занизили все оценки... Но самое обидное — что по русскому письменному... Все знают, что у меня по русскому только пятерки, всегда пятерки!.. (Кира врала так страстно, так самозабвенно, что сама поверила в свою ложь.)
Она держала экзамен! Она провалилась! Виновата во всем была англичанка... Если б тогда — за обморок — англичанка поставила ей пятерку...
Одним словом, она отхватила бы серебряную медаль.
Серебряная медаль, серебряная медаль...
Ну не обидно ли?..
Кира вдруг зарыдала.
— Что ж плакать-то? Наберешь свой балл на будущий год... Поступишь на курсы по подготовке.
— Отец! За что мне это? — всхлипывала она. — Ты почему-то воображаешь, что в будущем году справедливости будет больше... У ребят — протекции. У ребят — связи!.. А я... А я...
— То-то гляжу, — вздохнув, сказала Мария Ивановна, — она как в воду опущенная... Колобродить и то перестала, поверишь, отец!
— Не могу же я из-за папиной фанаберии, из-за папиных убеждений... — Кира захлебывалась.
— Ближе к делу, — сказал отец. — Чего надумала? Излагай.
— Папа! В Лауренсе идут дополнительные экзамены. У них недобор.
— То есть как это — недобор! Нынче нет недоборов в университетах.
— А я все же хочу попробовать!.. Может, примут на... русское отделение.
— Что ж, — подумав, ответил Зиновьев. — Спрос — не грех... Тем более что год у тебя все равно пропал... А все же поступила бы раньше, дочка, а уж потом бы стриглась на ихний лад... Уф! Глядеть не могу...
— Папа, разве это так уж существенно?
— А тебя, погляжу, заело! Ты словно переродилась... Зойка, подруга твоя, поступила, что ли?
— Все поступили. У всех блат.
— Ну уж это, дочка, сомнительно.
И вдруг в разговор вмешалась Мария Ивановна:
— Да что ж такое вы затеваете? Люди — в Москву, из Африки, а наша — москвичка! — в какой-то Лауренс... Плохо ли ей в родительском доме?! Опамятуйтесь... Сыта, обута, одета, обласкана...
— Не в том дело, мать, что сыта, — усмехнулся Зиновьев. — Она стремится к образованию. Да и не ей ли его получить? Ведь она у нас головастая... Пусть держит экзамен в Лауренсе, а потом, глядишь, и переведется, поскольку здесь у нее родители. Но ты хотела, Кира, эту, как ее... дефектологию? Есть в твоем Лауренсе — дефектология?
— Нету. Но мне бы пока хоть выдержать на педагогический. Там видно будет... Скажу, что вы многодетные... Переведут.
Готовя на кухне, Мария Ивановна время от времени обращалась к конфорке:
— Мы ли тебя не холили, мы ли тебя не жалели?
— Перестань, мама... Что ты голосишь надо мною, как над покойником!
— Росла и цвела ты, — продолжала Мария Ивановна, обращаясь к конфорке, — как королева...
— Мама, перестань меня отпевать.
И вот уже обе они сидят обнявшись на табуретке и тихо раскачиваются. Мать поглядит на Киру — и снова плакать.
Интермедия с конфоркой длилась до самого Кириного отъезда.
Весь ее багаж состоял из небольшого модного чемодана и отцовской гитары. Кешка, чувствуя себя одним из старших членов семьи (теперь среди детей он и был самый старший — ведь так?), пристроил на верхней полке ее чемодан.
— Мама, — Сашенька!.. Ты обещаешь, мама?.. Кешка, — Саша!..
— Отстань. У нас, может быть, тоже есть нервы, — ответил Кеша.
Поезд тронулся.
Кира увидела приподнявшееся к окну лицо матери. Глаза ее, повернутые в сторону удалявшегося вагона, расширились. Вскинулась рука, лицо матери дрогнуло... она улыбнулась.
— Мама, — сказала Кира, прижимая губы к стеклу окна.
А поезд все шел и шел, набирая скорость.
Потянулись крыши привокзальных строений. Гравий за полотном железной дороги. Московские камешки. И московская пыль. И гарь. И дымы...
На нижней полке вагона сидел человек лет двадцати восьми: житель Лауренса. Он был светловолос, глаза у него были серые, совершенно прозрачные, лицо суховатое, с чуть ввалившимися щеками. Житель Лауренса вез из Москвы щенка. Кличка кутенку была Апполо.
Апполосик сидел в выложенной ватой кошелке. Над ватой торчала его длинноухая голова. Его морденка хранила печать возвышенного страдания. Рядом с младенцем таксы стояла бутылка, лежала соска.
И вдруг Апполосик откинул голову и зарыдал.
Соскочив с верхней полки, Кира положила его за пазуху, схватила бутылку и принялась поить Апполосика молоком. Хозяин, спокойно сложив на коленях холеные руки, насмешливо поглядывал на красивого, коротко остриженного подростка и громко чавкающего щенка.
— Почему вы смеетесь? — спросила Кира.
— Я жду, когда у вас из ушей брызнут слезы.
— Если вы его совершенно не любите, зачем вы так рано отлучили его от матери? Ведь ему недели две, три.
— Я везу его для детей. Они хорошо полюбят. Они просили.
— А сколько их штук у вас?
— Кого?
— Ребятни?
— Десять штук... Ребенок, что это?.. Следствие любовь. Я люблю жену — и люблю детей. Десять штук. Поняли?
— А чего ж тут не понимать. У папы двенадцать, а у вас — десять.
Когда Апполосик уснул, Кира бережно уложила его в корзину.
— Сколько существ, Апполо, — тихо сказала она, — несут ответственность за свое обаяние. Каждый тебе норовит сдерзить. Как родится что-нибудь милое, — проявляет бдительность баба-яга. Какой-нибудь некрасивый щенок дремлет под боком у мамы-суки, а ты, бедняга, видишь маму только во сне.
— Я сейчас заплачу, — сказал хозяин щенка, — у барышни очень сильно воображение. Я растроган, я ищу носовой платок.
Они стояли в коридоре раскачивающегося вагона и глядели во тьму. Он сказал:
— Я слышал, что вас зовут Кири. Милы Кири, где бдительность баба-яга? И почему отец отпустил вас из дома одну?
Кира фыркнула. Они принялись смеяться и разговаривать.
— ...О-о, — захлебываясь, рассказывала она, — он, этот Ваня, знаете ли, был безнадежно, безнадежно, бедняга, в меня влюблен. Тогда у меня еще были длинные волосы... Он просто меня преследовал. И даже хотел зарезать!.. Об этом узнал мой папа и заявил в милицию. Тогда этот парень, этот злосчастный Ванька, запил, знаете ли... Он был в бессознательном состоянии, и друзья поспешили его увезти в Сухуми. Оттуда он еще долго слал письма... Отец перехватывал их, а на телеграмму: «Целую забытые тобою перчатки» — ответил: «Приветствую правый локоть вашего пиджака!»
— А вы, оказывается, очень жестки, Кири! У вас... очень сильны воображение.
— А разве можно не быть жесткой? И жить без воображения?..
— А сколько вам лет, дорогой Кири?
— Восемнадцать.
— Нехорошо говорить неправда... Пятнадцать!.. Шестнадцать!.. Не хотите ли шоколяд?
— Нет. Я бы выпила коньячку.
— Какой неудача! Я ничего не знал о ваших пристрастиях, Кири...
Она взяла шоколад.