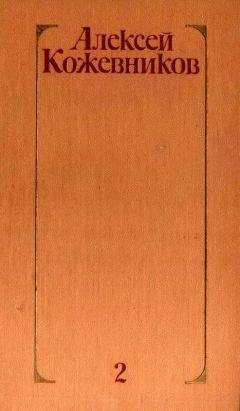— Привет от братца, — сказал он, когда отогрелся и отдохнул.
Мариша поблагодарила глазами, она не торопилась заводить разговор, для этого еще будет время, а пока надо досыта наглядеться.
— Не ждали? — спросил он.
— Не ждали. — Мариша улыбнулась и поманила за собой к закутке.
— Мне? — На некоторое время он обессилел от удивления, прислонился к стенке, потом схватил Маришу за руку и стал благодарить.
Она подумала: «За что мне такое счастье?..» Тихонько высвободила руку и сказала:
— Вы посидите. Я ужин приготовлю.
Разогрела обеденные щи, заново поджарила баранины. Он тоже занимался хозяйством: развязал торбочку, достал коврижку мерзлого черствого хлеба, положил к своей тарелке. Мариша отняла этот хлеб, придвинула свой, пышный и свежий.
— В гости не ходят со своим хлебом.
— Надо поскорее доесть, не то пропадет.
— Пускай пропадает, у нас хлеба много, — и понесла коврижку в кухню.
— Вы куда его? — испугался Василий.
— Корове.
— Корове? — В его голосе был ужас. И тут Мариша поняла, какую драгоценность хотела скормить корове. Может быть, этот кусок был последним в Егоровой избенке, его отдали Василию на дорогу, а сами остались без крошки на всю зиму; быть может, он выпрошен где-нибудь именем Христа, в которого Василий, пожалуй, и не верит; возможно, получен и того горше, украден или отнят силой.
— Он оттуда, от Егорушки? — спросила Мариша про хлеб.
— Нет, поближе.
Но был все-таки очень дальний, почти от Подкаменной Тунгуски, Василий нес его почти тысячу верст, почти месяц.
— Берите наш! Я доем этот. Попробую далекого. Ладно? — сказала Мариша.
Василий не стал спорить.
— Кушайте, не стесняйтесь. Я не буду, ужинала. — Она ушла к печке, в темноту и начала жевать мерзлую горькую коврижку.
Он ел жадно, полными ложками, целыми кусками. Когда от всего остался маленький кусочек баранины, вдруг отодвинул его. Мариша сказала:
— А вы все, все… — и принесла еще молока.
Он смутился: значит, она видела и его голод, и радость насыщения, быть может, неприятную, недостойную человека. Мариша поглядела на него ласково, по-матерински, и не ушла больше в темноту, чтобы он мог видеть постоянно, что она понимает его и не думает осуждать.
Мариша спросила:
— А теперь спать?
— Да, если можно.
Она приготовила в закутке постель, хорошо взбила перину и подушку, а когда он улегся, снова вошла к нему, подоткнула под ноги одеяло и привернула свет.
Сколь ни был Василий измучен, а при первом же свете солнца проснулся; за три месяца дороги у него создалась и упрочилась такая привычка. Мариша уже работала, приводила в порядок его дорожный бушлат. По тому, сколько положено заплат, он догадался, что трудилась, не ложась, всю ночь и упрекнул за это.
— Мне это ничего, не трудно: я сильная, — сказала она.
Он сел к окну и глядел то на поднимающийся холодный день, то на Маришу, как она работает иглой, потом готовит завтрак, топит печь и баню. Она похожа на молодую мать, по-девичьи свежая, по-матерински задумчивая и озабоченная. Ходит плавно и бережно, точно хранит ожидаемого младенца. Темно-русые волосы гладко зачесаны, в карих глазах простая житейская забота, смуглое лицо немножко грустно.
Сначала Василию кажется, что в непримиримом споре во всем спокойном облике находятся ее брови. Широкие и хохлатые, они слишком подвижны. Он пытается придумать новые, но постепенно привыкает к этим, а потом, вглядываясь больше, начинает думать, что такие для Мариши, пожалуй, — самые лучшие. Без них все было бы слишком аккуратно, слишком спокойно.
Мариша каждое утро ищет на снегу чужие подозрительные следы. Их нет. Отец раза два ходил в соседнюю деревню Надпорожную слушать разговоры, и разговоров опасных для Василия нет. Война, и говорят только о ней, много дезертиров, народ обеспокоен, как скрыть их, а начальство — как обнаружить. Убежавший ссыльный давно позабыт.
Василий отдохнул, по ночам начал выходить на крыльцо, в огород, иногда на тропу до реки, днем ради предосторожности держался в закутке. Чтобы скрасить его одиночество, Мариша собрала книги, какие нашлись в доме: послания протопопа Аввакума, — принес их в Сибирь из России прадед Дорофей; «Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Кавказский пленник» графа Толстого; «Ниву» — один год выписывали ее, но дельного ничего не нашли и прекратили подписку; девять всеобщих настольных календарей — их покупали ежегодно и хранили.
Отец Мариши тоже захотел оказать гостю внимание и принес лоции реки Енисей.
— Это по нашему, по водному делу. Для молодых лоцманов — необходимая штука, а для старых… Лежат вот, — развел руками, как бы извиняясь перед лоциями. — Мы с Егором до них научились, на практике. Ни лоциев не знали, ни обстановки на реке не было, а ничего, целы остались. По мыскам, по кустикам, по водной ряби находили дорогу.
— А река изменит фарватер, мель, косу поставит?..
— Воду чувствовали. На воде все прочитать можно, уметь только надо, — и начал объяснять, как читать воду.
После разговора Василий отложил все прочее книжное богатство и сел за лоции. Старик подметил это и, погодя дня три, зашел снова, потом начал бывать ежедневно.
— Часто заходила и Мариша — иногда ненадолго, спросить что-нибудь недоспрошенное про брата Егора, иногда с шитьем и пряжей, работать.
На ней обычно белая холщовая кофта, вышитая мелким узором по рукавам и вороту, домотканая юбка в клеточку — синее с красным — и голубая, немножко поблеклая косынка. В этом простом будничном наряде есть что-то праздничное и особое девичье, он овеян красотой лучшего месяца, июня, и радостью самого песенного труда — сенокоса.
Устроится Мариша в уголке, в тень, чтобы казаться поменьше, — она живет в постоянном смущении за свое большое тело, — и тихо попросит:
— Расскажите что-нибудь…
Как ручей в каменистой местности течет то поверху, то уходит вглубь, под камни, так и разговор: возникнет, примолкнет, но живет и неслышимый, в мыслях, в свете глаз, лиц, в дыхании. Не прерываясь, идет он от той декабрьской первой ночи, когда явился Василий, спешит к какой-то, пока неясной цели.
Предчувствуя ее, ручей-разговор начал чаще нырять под камни, а когда пришел к цели, Василий и Мариша удивились: шумел, затихал и таился он ради одной мороки. На деле только покружился и вернулся к своему истоку — Василий снова сказал:
— Я и там все думал про тебя. Думал, ты моя невеста, тоскуешь, ждешь.
Мариша уронила шитье и заплакала, а Василию велела замолчать.
Все взрослое и материнское в ней исчезло, была она как маленькая девочка, брошенная посреди пустой дороги. Он теперь был сильней и тверже, настала его очередь утешать ее. Он тихонько притянул Маришу к себе.
— Не надо плакать.
— Знаю, — и заплакала пуще.
— Ну, а теперь-то о чем? Устроилось ведь все.
— Уйдешь — будет мне тошней прежнего.
— По-твоему, лучше бы не приходил?
— Нет. — Она сразу успокоилась, снова стала большая и твердая. — Знаю, уйдешь. Может, один, вот этот, разочек за всю жизнь и увидимся. — Мариша отстранила Василия. — Будет… рассиделись, а батюшка на дворе мерзнет.
Старый лоцман ходил с лопатой, убирал лишний снег.
— Батюшка, ты напрасно но бережешь себя, — сказала она.
— Как беречь-то, дело ведь.
— Дело подождать может.
— Я, знаешь, думаю сходить в Надпорожную дня на три, к старикам, к тезкам.
— Вот придут праздники, и ступай, а снег, дрова — не надо, я сама сделаю.
В канун рождества Мариша проводила отца в Надпорожпую, потом, вечером, услала и Василия побродить где-нибудь до того времени, когда звезды скажут полуночь, а сама начала мыть пол. Вымыла, устлала зелеными сосновыми ветками. Вымылась сама, устроила брачную постель, достала из сундука венчальную одежду для себя и для Василия. Когда он вернулся, Мариша сидела у стола, перед нею горели две восковые с золотом свечи. Была она в такой задумчивости, что пришлось ее окликнуть. Она велела ему пройти в закутку и переменить одежду.
— Нас что, венчать будут? — спросил он.
Она нахмурилась. Он ушел переодеваться. За это время отгорели свечи, Мариша осталась сидеть, не зажигая лампы, во тьме. Когда он вышел к ней, Мариша сказала, что, хотя он и незаконный, а будет для нее единственно любимый, она сожгла свои венчальные свечи, вместе с ними на всю жизнь сожгла и думу о ком-нибудь другом.
При первых оттепелях по крепкому мартовскому насту Василий ушел дальше. Провожал его до города Григорий Борденков, шестнадцатилетний парнишка из деревни Надпорожной.
Весной от Веньямина пришло извещение, что едет домой по чистой, война для него навсегда кончилась; отделался легко и удачно: немножко поуродовало левую руку. С другими получилось хуже. А через неделю появился и сам Веньямин. Сказать об этом старому лоцману прибежал внук, сын Веньямина, шестилетний Митрофан.