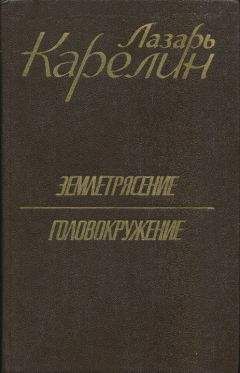Они обнялись.
6
Весна! Господи, как хорошо, весна! В Ашхабаде Леонид не заметил её прихода, она там всю зиму тлела. И в январе, и в феврале случались такие солнечные дни, что можно было посчитать их весенними.
А в Москве Леонид увидел весну. Он её услышал, учуял. Она жила в капели, в талом, вязком воздухе, в мокрых, оледенелых стенах, в том скудном драгоценном тепле, которое не греет почти, и за ним надо охотиться, переходя то на правую сторону улицы, то на левую, а то брести мостовой.
Леонид шёл улицей Горького, по левой стороне, где сейчас было солнце, и дьявольски мёрз, как мог бы мёрзнуть только южанин. Он шёл и внушал себе: «Это улица Горького… Я на улице Горького… Я в Москве…»
Да, несомненно, он был в Москве. Но он был ещё и в Ашхабаде, прощался с друзьями, выслушивал их напутствия, просьбы. Прощался с Ирой у стойки. «Напишешь?» — спрашивала она. «Обязательно». Но разве пишут буфетчицам Ирам? И шёл он ещё куда‑то по вечерним улицам вместе с Тиуновым, Птициным и Руховичем и все ждал чуда: вдруг его окликнет Лена. А чудес-то ведь не бывает…
Да, он был в Москве, на улице Горького, а часом раньше был на Разгуляе, где работал его дядя, взял у него ключ от комнаты и поехал в Замоскворечье, в переулок у Пятницкой — там в ветхом двухэтажном доме была у дяди комната. Она пустовала, дядя жил круглый год на даче, лишь изредка ночуя в Москве.
Леонид и раньше живал в этой комнате. После демобилизации прожил почти год. Хмурая комната, сырая, холодная, с причудливой мебелью, скрипевшей и качавшейся по ночам, будто в ней поселились духи в белых, как мебель, париках. Но податься было некуда. Москвич Леонид Галь был бездомен в родном городе. Комнату, в которой он жил с родителями до войны, когда родители эвакуировались на Урал — в тот же город, где жили несколько лет в довоенные годы, — заняли соседи. Старики так и остались на Урале, им там покойно было, они там хорошо устроились, ну, а Леонид своими силами вернуть назад комнату не сумел. Можно было, конечно, остановиться в Туркменском постпредстве, где было приличное общежитие. Можно‑то можно, но неловко как‑то: называет себя москвичом, а жить в Москве негде.
Охотный ряд… Улица Горького… Здание телеграфа… Далее пустырь, на котором готовятся возвести высокий дом. А недавно здесь на углу в подвале маленького дома была столовая, а ещё раньше, говорят, в этом подвале поэты читали стихи. Меняется Москва. Вот и здание Моссовета стало совсем иным. Его надстроили. Жаль красный дом Казакова, он был из лучших в Москве. Не всякий дом становится лучше, сделавшись приметнее. Так и человек порой. Стал приметнее — и потерял, а не приобрёл.
Дальше, дальше вверх по улице Горького, и вот он — нужный тебе переулок: Малый Гнездниковский, где находится Министерство кинематографии. Леонид знал, что много времени теперь будет проводить на этом отрезке от Охотного ряда до Малого Гнездниковского. Он знал, что Центральный телеграф станет для него чем‑то вроде клуба, как, впрочем, и для многих командированных, часами выстаивающих в его залах и на его ступенях в ожидании телефонного разговора, телеграммы, письма и денег, прежде всего денег, которых командированному никогда не хватает и которые не спешат ему переводить.
В проходной, отчего‑то страшно разволновавшись, Леонид позвонил редактору, ведавшему их студией. Телефонистка не сразу даже разобрала номер, так невнятно–нервно Леонид произнёс его. Наконец она сказала: «Ну, ну, соединяю». Леониду показалось, что она посочувствовала ему, угадала его волнение, угадала, что он приезжий, что у него зуб на зуб не попадает от холода, а значит, приехал он с юга. Ему захотелось сказать ей: «Нет, вы ошибаетесь, я не приезжий, я москвич, я родился в Москве. Но, правда, сейчас я прилетел из Туркмении». Зачем‑то ему понадобилось все это сказать неведомой телефонистке. Но где её добудешь? Она уже с пятым или десятым вела разговор. «Да, да, соединяю… Занято… Номер не отвечает…» Да и что ей за дело, откуда он, кто он? Леонид одёрнул себя, он подумал про себя брезгливо: «Ты становишься провинциалом!»
— Да?.. Слушаю вас?.. — Кто‑то чуть слышно окликал его в трубку с этакой усталостью и расслабленностью очень занятого человека.
— Валерий Михайлович? Это вы?! — радостно закричал Леонид и обругал себя: «У–у, провинция! Чего разорался?!» И продолжал кричать: — Галь, это Галь с вами разговаривает! Я прилетел по вызову министерства! Здравствуйте!
— А… прилетели… — Усталый Валерий Михайлович проговорил это слово так длинно, что Леониду вдруг вспомнилось, как он летел. Полет был тоже длинный.
Вспомнились красно–жёлтые пятна пустыни, зацветшей тюльпанами и уже местами отцветшей. Вспомнилось Каспийское море под крылом. Синее море с белыми в нём облаками. Вспомнилось, как ночевал в Баку, но до города было далеко, и он провёл всю ночь на скамье в аэропорту. Вспомнилось, как шёл на посадку самолёт во Внукове, как загудело, заломило в ушах. В ушах и сейчас ломило.
— Ну что ж, приветствую вас в столице нашей родины Москве. — Это Валерий Михайлович изволил пошутить. Он и шутил все тем же утомлённым, расслабленным голосом очень заработавшегося человека. — Так где же вы обретаетесь?
— Я в проходной.
— Вы ко мне?
— К вам.
— Хорошо, сейчас закажу пропуск. Но только я не смогу сегодня уделить вам много времени. У меня день сегодня расписан по минутам. — Валерий Михайлович повесил трубку.
Леонид тоже повесил трубку. В ушах гудело, сердце колотилось, но он успокоился. И наконец уверовал, что он в Москве.
7
Леонид любил своё министерство, самый дом любил, надстроенный барский особняк, очень какой‑то симпатичный и внешне и внутри. Входишь, ещё только дверь тяжёлую приоткрыл, а уже что‑то глянуло навстречу, располагая к себе. Входишь и погружаешься в коричневую тишину деревянных панелей, а дальше мрамор стен и зачин широкой лестницы, покойными, торжественными маршами идущей в святая святых дома, в его центр, где не удивился бы, повстречав римского патриция в тоге, и запросто можешь встретить самого министра.
Далее — быстрая лестница на третий и четвёртый этажи, надстроенные для нужд учреждения, но все же не заказененные, все же помнящие, что они в родстве с дворцом патриция, и ты попадаешь в маленький холл, обставленный дешёвыми диванами, попадаешь в курилку и гомон людской, сразу множество узнавая знакомых лиц, людей знаменитых, полузнаменитых, мнящих, что знамениты, или ещё не мнящих. Весь коридор — это Главк художественных фильмов, а холл в конце коридора — это ожидалка, место встреч, деловых и не очень деловых, дружеских и не очень дружеских.
Мимо, мимо знакомых лиц — сейчас ему не до бесед досужих. У него дело! Он прибыл по делу!
Валерий Михайлович диктовал стенографистке, когда Леонид вошёл в его крошечный кабинетик. Валерий Михайлович кивком указал Леониду на стул и продолжал диктовать. Медленно тянул он свои слова скрипучим голосом, устало полуприкрыв глаза. Но слово за словом — и рождалась фраза, полная бодрости и оптимизма. И ещё одна фраза, ещё того бодрее и оптимистичнее. И ещё одна… Почти уснувший, со сморщенным от скуки лицом человек надиктовывал заключение о каком‑то сценарии, хваля его с юношеской восторженностью. И только в конце, мекая и экая, Валерий Михайлович заплёл фразочку о недостатках, такую ловкую, что будто бы и невелики недостатки, а вдуматься, так и нет ещё никакого сценария. Мастер! Вот она, редакторская выучка!
— А? — Валерий Михайлович лукаво глянул на Леонида.
— Высший класс, — сказал Леонид. — А зачем тогда столько церемоний?
— Тут дело не в сценарии, а в авторе, в его незаурядных пробивных способностях. Все, Кирочка. На подпись к шефу. Как он сегодня?
— Подпишет. — Кира чуть улыбнулась мастерски выведенными губами. Она была хороша — эта Кира. , Устойчивых тридцати трёх лет, статная, с горделивой осанкой и такая нарядная, будто не на работу пришла, а на новогодний бал. Давно уже не встречал Леонид таких сделанных женщин, так продумавших себя от перламутровых ногтей до завиточка на стройной шее. Леонид' знал: Кира эта здесь не просто секретарша, хотя и была просто секретаршей. Эта женщина пользовалась значительным влиянием, перед ней заискивали. В министерстве вообще всё было не простым и не очевидным, — Леонид знал это.
Ира собрала свои бумажки и поплыла к двери. Леонид, как только умел любезнее, придержал для неё дверь. Она улыбнулась ему благосклонно.
— Где вы так загорели?
— В Ашхабаде.
— Ах, да, да... — Она его вспомнила, ведь это она оформляла его назначение в Ашхабад. — Ну как вам там?
— Замечательно.
— Заходите, расскажете. — И удалилась, кажется решив, что этот Галь неплохой малый.
— Значит, прилетели? А зачем?
Вот так–так!
— Но меня вызвали. Была телеграмма…