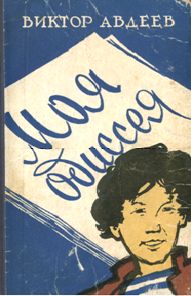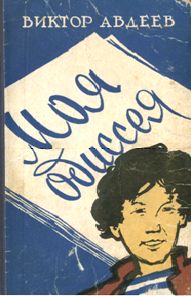Платон кусал губы, хмурился.
— Обязательно, Вася, — засмеялась Лариса. — Только в другой раз.
Она легко оттолкнулась коньком о лед и покатилась навстречу отцу. Васька Шиянов тут же, точно играя или ухаживая, скользнул за ней и узнал художника. Кадаганов был в том же коричневом ратиновом пальто, пыжиковой шапке, бурках. Шиянов легко вычертил перед ним широкий вензель, словно специально и хотел его сделать, вернулся к Платону и лишь здесь увидел хмурые брови своего бригадира.
— Все понятно, — поспешно сказал он и выставил щитом руки. — Не знал и посадил «козла». Плавка идет в брак. Прошу извинения за нарушение движения.
В два-три разгона Васька Шиянов очутился на середине круга и пропал среди катающихся.
Прежде чем он исчез, Лариса успела указать на него отцу, со смехом поведала о знакомстве. К ним подъехал Платон, сошел с беговой дорожки в снег. У Платона вдруг создалось странное ощущение, будто он уже сегодня мельком видел Кадаганова здесь, на катке. Откуда у него могло появиться такое ощущение?
— Вы здесь давно, Аркадий Максимович? — спросил он, желая проверить себя.
— Я вас видел, Платон. Вы недурно бегаете на коньках.
— Значит, ты, папка… — Лариса слегка смутилась.
— Тебе не безразлично? — прищурился Аркадий Максимович. — Я вернулся домой, узнал от Марфуши, что ты с коньками уехала в парк культуры, ну и… решил тебя пожалеть, дочка, сам сел за руль «Волги» и прикатил сюда. Я ведь знаю, какими усталыми уходят люди с катка. Кстати, Платон, и вас подвезу. А пока порисую немного.
Художник вынул из внутреннего кармана блокнот в зеленых корках.
«Не знала Лариса, что отец приедет? — недоверчиво подумал сталевар. — Опять, верно, хочет нарисовать меня… в новой позе?»
— Ну, мы покатили, папа, — сказала девушка, словно желая прекратить эту сцену, и сошла на лед.
В боковые аллеи молодые люди больше не сворачивали. Несколько раз, проносясь по беговой дорожке, Платон видел Кадаганова: художник быстро чертил карандашом в блокноте. Затем он переменил место: наверное, искал другое освещение. Примерно четверть часа спустя Кадаганов задержал дочку; остановился и Платон. Аркадий Максимович попросил его попозировать: вот он стоит; вот он первым движением носка отталкивается ото льда; вот он бежит…
— Свет неважный — сказал он, — Да и руки зябнут. Ну что ж, пора домой? Ступайте, молодежь, одеваться, ступайте.
Автомашина вынеслась на широченный, в железном ажуре Крымский мост. Далеко внизу черно блеснул лед Москвы-реки. Лариса вела машину уверенно, с удовольствием. Кадаганов, сидевший рядом с дочерью, повернулся назад.
— Вас, очевидно, Платон, интересует, стану ли я писать картину «Знатный сталевар на катке»? — заговорил он. — Заранее вам скажу: у меня и мысли подобной не было.
Аныкин молча слушал.
— Спросите, зачем же я тогда приехал в парк культуры и отдыха? — продолжал Аркадий Максимович. — Просто, ну… посмотреть, что ли, на вас в другой обстановке. Когда думаешь написать новое полотно, чаще хочется видеть свой объект или, как у нас принято говорить, натуру: авось найду в ней что-нибудь новое. Да и вообще потянуло свежим воздухом подышать, засиделся я на разных собраниях, в мастерской. А поскольку я редко езжу без альбома, то попутно и сделал наброски конькобежцев. Ясна вам моя кухня?
Платон кивнул.
— Трудно вам?
— Как сказать, — улыбнулся художник. — В работе ведь и заключается смысл человеческой жизни. Есть ли что тяжелее, но интереснее, чем искать новое? Искать неутомимо, сбиваться, заходить в тупик — и все-таки искать! Там, где кончаются поиски нового, наступает ремесленничество, штамповка.
Кадаганов вновь повернулся и стал глядеть в смотровое стекло.
Над крышами в ночном небе смутно обрисовалась чадящая труба завода.
Начались мартовские снегопады. За ночь окна московских домов разрисовывал морозец, а к полудню вновь пригревало солнце, и с крыш срывались радужные сосульки. Деревья словно разбухли, стояли черные, влажные: под корой тронулся сок. В город прилетели белоносые грачи и разгуливали по бурым влажным проталинам.
В хмурый весенний день в мартеновский цех завода в сопровождении сменного инженера вошел Кадаганов с дочерью. Лариса от двери с любопытством подняла глаза на мостовые краны, осмотрела садочную машину, языки пламени, что вырывались из форсунок, легко перепрыгнула через скрап — металлический лом.
Возле четвертой печи в окружении начальника цеха, мастера, подручных стоял Платон Аныкин в синих очках: готовились брать пробу. Открылась массивная заслонка, и ослепительное пламя ударило из «окна» в цех: голубоватые, оранжевые отблески заиграли на противоположной стене, на платформах с шихтой, на людях. Платон поднял огромную ложку на длинном шесте, окунул ее сперва в плавающий сверху шлак, чтобы сталь не пристала, и зачерпнул из ванны свое «варево». Вся ложка нестерпимо засияла, солнечные искры металла с шорохом брызнули к высокому потолку, в стороны. Платон наполнил сталью формочку, остаток опрокинул на плиту. Было непонятно, как он терпит такую жару: лицо его мокро блестело, рубаха покрылась пятнами соленого пота.
— Добрая сталь, — сказал начальник цеха, определив качество металла по цвету, по искрам, по форме, в которой он застыл.
Пробу отнесли в цеховую лабораторию на анализ, подручные начали готовить огненную массу к выпуску. Платон подошел к Кадагановым и поздоровался.
— Никак не мог уговорить Лару остаться дома, — смеясь, сказал Кадаганов сталевару. — А меня опять потянуло к вам в цех, хочу еще раз поглядеть. В общем мешать вам не будем, ступайте разливайте «чаек». У меня тут свое дело.
И, отойдя к перилам мостика, он вынул блокнот. Но рисовать не стал, с жадностью приглядываясь ко всему, что делалось в цехе. Кадаганова поразил облик Платона. Сталевар держался по-обычному просто, но уверенно, во всех движениях его сквозило сознание значительности того дела, которое он выполнял, власти над кипящим металлом. И весь цех представился художнику в другом виде, да и сам он перестал бояться подъемного крана, садочной машины.
…Из мартена выпустили сталь. Рукавом спецовки Платон с облегчением вытер мокрый лоб и подошел к девушке, снимая на ходу рукавицы.
— До чего интересно! — оживленно воскликнула Лариса, не отрывая взгляда от мостового крана, подводившего солнечно-озаренный, наполненный металлом ковш к громадным изложницам, вокруг которых уже суетились разливщики. — Меня нынешняя экскурсия чрезвычайно обогатила. Я стану вашей ученицей и пройду практику на этом заводе. Ладно?
— Подручным-дублером, — в тон ей шутливо проговорил Платон. — А вы, Лариса, поможете мне. Через год я поступлю к вам в ученики — готовиться в институт. Вообще, скажу по совести, мне знакомство с вашим папашей много дало.
Словно вспомнив об отце, Лариса оглянулась на мостик и как-то вся затихла.
— Я у папы давно не видела такого подъема, — сказала она негромко, с удивлением. — Нет, вы посмотрите, Платон, посмотрите, как он работает!
Не помнил и Платон такого лица у художника. Оно просто пылало, или, может, это казалось оттого, что весь цех озарялся вспышками расплавленной стали из семидесятипятитонного ковша, изложниц? Молодые люди подошли сзади, заглянули в его альбом. На листе бумаги был изображен момент взятия пробы: металл, льющийся из ложки, искры и взволнованное, озаренное светом, волевое лицо сталевара.
— Понимаешь, Ларочка, нашел свою ошибку, — возбужденно заговорил Аркадий Максимович, никого не замечая вокруг, будто находился с дочерью у себя в мастерской. — Внутри меня все словно озарилось… вот как в цехе при этой плавке. Ты отлично знаешь: я не ощущал раньше поэзии в индустрии. Терриконы, станки, заводской дым, уголь — что тут красивого? И когда я увидел Платона возле мартеновской печи, он мне показался крошечным винтиком огромного механизма. А вот в кульминационный момент явно выступил его характер.
Несколько рабочих окружило художника; горячо жестикулируя, он пошел с ними к мартену, Платон тихо спросил девушку:
— Значит вы, Лариса, тогда вечером, зимой, не случайно заехали? Специально для рисунка? И на каток…
— Меня папа просил, — перебила Лариса. — Я не имела права выдавать его секретов… Вы извините. Платон, я пойду посмотрю, что он там. Освещение вашего лица, напряжение у него вышли неплохо, а? — И девушка проворно ушла.
Аныкин присоединился к рабочим своей бригады.
— Ну что, Платон, не прав я был? — шепнул бригадиру Васька Шиянов. — Помнишь, сразу сказал: начнет срисовывать в спецовке. У меня, брат, глаз на этих художников наметанный. Им давай что почудней. А ты не соглашайся. Что это он тебя в грязной робе будет выставлять? Пускай заканчивает тот рисунок, при галстуке и с лауреатским значком.