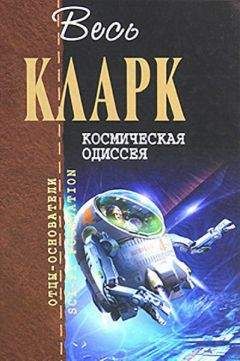– Насчет дубка это ты верно… Жалко дубок… но уж больно место пригожее: в ложбинке. Огня не видать… Миша, пособи карасику… Чтоб повыше было…
Михаил поставил в траву бутылку и сплел руки, как учат в школе на занятиях по гражданской обороне переносить раненых. Его самогонодышащая рожа уткнулась мне в грудь. Прямо перед собой я имел потную потрескавшуюся лысину. Близость моего тела возбуждала Михаила. Пока Аггей возился, привязывая меня к дубку, Михаил сопел и дышал все чаще и чаще и вскоре даже стал слегка повизгивать, как молочный щенок.
– А зачем вы откладываете сожжение на завтра? – спросил я. – Зачем мучаете своего сына?
Аггей ходил вокруг дерева, не спеша обматывая меня веревкой и постоянно проверяя прочность крепления.
– Потому, карасик, что поутру сподручнее. Поутру туман от реки. Дым-то с туманом помешается, и не видать ничего. Сейчас огонек-то далеко видать будет, карасик.
– Соображения резонные, – одобрил я.
Мое замечание почему-то вывело Михаила из себя.
– Соображения… резонные, – прохрипел он, – гадина… бард… – и вдруг впился мне в плечо бульдожьей челюстью.
От неожиданности я закричал. Аггей кинулся мне на выручку.
– Не балуй! Михаил! Кому сказал – не балуй понапрасну. Не лютуй, зверюга!
Но попытки оттащить от меня Михаила ничего не дали. Друг Лягушачьего короля замкнул на мне челюсти намертво. Я же не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Наконец отец догадался огреть родное чадо толстым концом веревки поперек спины. Михаил отвалился от меня, как насосавшаяся крови пиявка.
– У-у… бард… – В горле Михаила клекотало.
– Иди! Иди! – замахнулся на него веревкой отец. – Иди проспись.
Михаил отскочил, взял бутылку и заковылял в кусты. Однако совсем не ушел. Остановился и стал смотреть в мою сторону, прихлебывая из горлышка.
Веревки резали мне тело.
Аггей набрал сучьев и принялся в сторонке разжигать костер, – значит, будет сторожить меня всю ночь.
– Эх, карасик, карасик… зря ты, ей-право, зря против силы. Сила солому ломит, а не только таких, как ты.
– Развязали бы. Хоть перед смертью не мучили.
– Развязать никак не можно, карасик. Потому, как правило, убегаешь. Тебе сейчас ничего не остается, как убегнуть, потому завтра конец. Ты на убийство пойдешь. Пойдешь ведь? Пойдешь! Ты вроде бы придурковатый, а, как правило, гордый. Я тебя сразу раскусил. Я таких люблю. Жаль, что на поджение пошел. Теперь уж ничего, как правило, не поделаешь. Оставить тебя никак невозможно. Сам понимаешь…
– Конечно, понимаю…
– Вот-вот, карасик… Ты уж не обижайся.
– Да чего там.
– Ты хороший, как правило, парень, карасик.
– Вы мне тоже нравитесь.
Минут десять мы объяснялись в любви друг другу. Аггей до того расчувствовался, что смахнул слезу и сказал:
– Пойду повара приведу. Пусть тебя напоследок шашлыками попользует. Как правило…
Из кустов выдвинулся Михаил, оглянулся по сторонам и заковылял ко мне, держа за горлышко бутылку. Я содрогнулся. К счастью, послышались шаги, и на дорожке появился Сундуков. Я сразу заметил, что он пьян. В его руках была моя гитара.
– Привет, – сказал философ. – Висишь?
Я отвернулся от предателя.
– Нос воротишь? На Голгофу специально, сволочь, пошел, чтобы меня унизить.
Сундуков обошел вокруг дерева и возбудился еще больше:
– Героя из себя корчишь. Партизан! Может, ты еще хочешь, чтобы тебе на грудь дощечку с надписью «Поджигатель» повесили? Шиш дождешься! Я тебе вот что приготовил.
Философ выхватил из кармана пиджака картонку с веревочкой и дал мне прочесть надпись. Там было написано: «Я вишу здесь, потому что идиот, как сивый мерин». Потом Сундуков накинул веревку мне на шею и, отойдя немного, полюбовался.
– Вот так-то лучше…
После этого Сундуков уселся у подножия дубка и запел страшным голосом, подражая барду:
Чуть блестели твои глаза,
В окнах вьюга злая шумела.
И сказал я тебе тогда:
«Хочешь, буду твоим Ромео?»
– Перестань, – попросил я. – Не отравляй последние часы.
Но Сундуков продолжал, бренча по струнам гитары пятерней, как на балалайке.
Долго дружили мы,
Думали, будем вместе.
Я приходил к тебе,
Словно к своей невесте,
– А теперь ты пепел! – вдруг закричал он. – Пепел! Завтра будешь пеплом!
Философ бросил на землю гитару и стал топтать ее.
– Я ненавижу тебя, гнусный бард! Ненавижу! – вопил он. – Ты исковеркал мою жизнь!
– Чем же я исковеркал? – пытался остановить я начинающуюся истерику. – Ты что ко мне привязался? Умереть не дают спокойно!
– Гнусный лицемер! Тебе же хочется жить! Зачем ты корчишь из себя героя? Зачем мутишь людей?
С философом все же сделалась истерика. Он зарыдал, потом припал к моим ногам и стал целовать их, приговаривая: «Прости, Жора, прости, я негодяй, мне стыдно».
Боль в плечах и ногах, где впились веревки, становилась все нестерпимее, и я был рад, когда Сундуков ушел, зачем-то сунув в карман оборванную струну. Ушел он сгорбившись, с опухшими от слез глазами.
После Сундукова приходила прощаться Лолита. От слез она даже похорошела.
– Жора, – сказала она, припадая к моим ногам и рыдая, – это я во всем виновата. Я погубила тебя…
Мне очень приятна была эта сцена, и я попросил Лолиту-Маргариту быть мужественной и дать мне умереть по-человечески, но она рыдала все больше и больше.
– Я буду за тебя молиться, Жора. Ты не волнуйся, я стану молиться за тебя день и ночь… Тебе будет хорошо, вот посмотришь…
Она ушла, спотыкаясь и рыдая, но, по-моему, несколько успокоенная.
Все, что было дальше, я помню отрывками. Я то терял сознание, то приходил в себя. Когда я приходил в себя, то видел полупотухший костер, дремавшего возле него Аггея и жуткий, горевший красным огнем взгляд из-за кустов. Там все ходил кругами, трещал сучьями Михаил.
В полузабытье передо мной возникало голодное послевоенное детство и пришедший раненным с войны отец. Мы не прожили с отцом и года. И я снова там, в послевоенном райцентре, иду по улицам… Разглядываю афиши на Доме культуры: «Сегодня танцы. Играет эстрадный оркестр». А потом по темным улицам, мимо базарной площади, пустой, белевшей в темноте кучками рассыпанной соломы, пахнущей навозом; мимо ряда дощатых ларьков с надписями: «Универмаг», «Продовольственный магазин», «Утильсырье», с застрявшими в щелях кулями-сторожами; мимо заросшего стадиона с черными рядами скамеек, на которых то там, то здесь застыли парочки, тихого, веселого и светлого днем и такого загадочного вечером.
И вдруг яркий свет, стук молота, гудение машин, шипение пара, перебранка шоферов у железных ажурных ворот. Ремонтно-механический завод.
– Стой! – кричит одноногий вахтер. – А ну, вернись!
Но я уже скрылся в проломе заводской кирпичной стены, перелез через низкую кладку и иду под развесистыми кладбищенскими березами. Мимо запятнанных лунным светом могильных плит, крестов, старинных мраморных памятников, остроконечных деревянных башенок со звездами… Мимо страшного обвалившегося, заросшего крапивой склепа с потайным ходом куда-то…
Поворот направо, поворот налево… Колонка для полива цветов на могилах… Три одинаковых здания с колоннами и портиками, издали в лунном свете похожие на древнеримские развалины, – павильоны районной сельскохозяйственной выставки, сейчас запущенные, обвалившиеся, а осенью сияющие свежей известью, алебастром, наполненные мычанием скота, звоном цепей и говором подвыпившей публики с черными от солнца лицами, пришедшей посмотреть на коров и свиней, которых они же сами привезли сюда.
Одна из самых глухих аллей. Здесь давно уже не хоронят. Лопухи, крапива, из которых выглядывают покосившиеся черные кресты. Здесь лежат монахи Лаврского монастыря. Ветви кустов бьют по лицу. Луна сюда не достает, и здесь темно, пахнет гнилью. Даже самые богомольные старушки боятся ходить этой аллеей. А я не боюсь. Потому что здесь, среди монахов, вон за теми кустами, лежит мой отец.
Он нигде не работал, мой отец, потому что все время болел. И я нигде не работал, потому что мне было только четырнадцать лет, когда отец умер, а мать еще не нашлась после бомбежки нашего эшелона в сорок третьем, и отца похоронили соседи в дальнем конце кладбища, среди монахов Лаврского монастыря.
Прошло уже много лет, как умер отец, а мне все кажется, что он живой. Просто он спрятался вон за теми кустами, в ложбинке среди могил монахов, и ждет, когда я пойду обратно.
Он слишком живой, чтобы так долго лежать в земле. Он полежал так, для виду, может быть, год, а может, полтора, а потом пошел бродить по аллеям и полянам, от скуки разглядывая памятники и поджидая меня. Вот почему я безбоязненно иду сквозь кусты, перемахивая через коряги и заброшенные могилы. Я не один здесь. Где-то там в кустах – мой отец… Я редко прихожу на его могилу и никогда не сажаю на ней цветов. Богомольные старушки осуждают меня за это. Но разве я виноват, что не могу представить себе отца лежащим в этой могиле, среди монахов Лаврского монастыря.