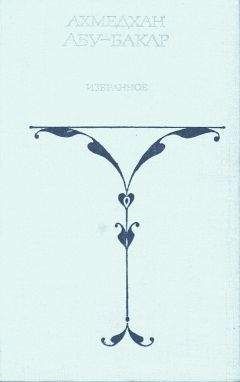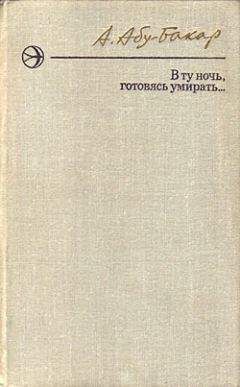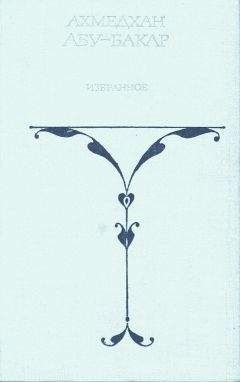Впрочем, для меня выбора не было: только с Казанби и Хажи-Ражабом я мог быть Эльдаром, княжьим сыном. Во всех иных местах я, как заколдованный злой силой, делался Мутаем из Чихруги.
Но в тот день я вернулся домой из Апраку преображенный, усмехаясь и подмигивая самому себе. Казалось, надвигаются значительные перемены в жизни, и я предвкушал возможность оказаться среди тех, кто будет по-своему строить будущее Страны гор.
То были дни, когда гитлеровцы взяли на Терском хребте холмы, на которых разбросан город нефти Малгобек.
Нет, я не лгал и не выдумывал, когда говорил Казанби, что он скоро станет дедушкой. Моя Зулейха на самом деле ждала ребенка. И когда, позабыв обо всем, что происходило за стенами сакли, мы увлеченно беседовали о будущем нашей маленькой семьи, я и подумать не мог, что родится девочка. Как-никак я горец, а горцы говорят, когда родится девочка: «Родился камень для чужой стены». А я хотел, чтоб родился столб, опора для моего рода: ведь я был последним человеком в папахе из княжеского рода Кара-Кайтага. Признаться, я сомневался: смогу ли дать сыну наше родовое имя, такое известное в Дагестане. Оставалось надеяться, что немцы придут раньше, чем у меня родится сын.
Чем ближе пробивались гитлеровцы, тем больше людей становилось в отряде Казанби, «друзей справедливости», как я называл их в листовках-воззваниях, что писал Эли для Хажи-Ражаба. При встречах в лесной глуши, ибо стоянки постоянно приходилось менять: все время по следам шайки шли истребительные отряды, — они называли меня «своим идеологом», и это мне очень льстило. О многом мы говорили, составляли планы, обсуждали, как быть с землей, с частной собственностью. На словах мы были готовы, но слишком ничтожны были наши силы… Оставалось писать листовки, призывать горцев помогать «друзьям справедливости». Подписывал листовки псевдонимом «Урбас-Али»; подражал в этом большевикам гражданской войны, когда у них были партийные клички. И в то же время старался быть очень осторожным: даже Зулейха не знала, что я автор листовок.
Листовки люди находили в неожиданных местах: в бане, в уборных, на стенах саклей, на базарных прилавках.
А «друзья справедливости» на самом деле были простыми бандитами: обирали путников, насиловали на дорогах женщин, грабили мельницы, угоняли колхозную баранту, сводили старые счеты с советскими работниками. То и дело доходили слухи, что качаги — бандиты, — народ нас иначе и не называл, — того в ущелье Совы схватили и подковали, как лошадь, того ослепили, тому на спине вырезали звезду, того повесили у него же на веранде… Гнев и злобу рождали у горцев эти зверства. Тщетно я говорил Казанби и Хажи-Ражабу, что необходимо быть гибкими, терпеливыми и даже милосердными — хотя бы до тех пор, пока не захватим власть. Я помнил еще по временам шамхала Тарковского, какой гнев мы породили тогда в горцах излишней жестокостью. Впрочем, «друзья справедливости» не желали слушаться ни меня, ни Казанби. Мои слова были для них вроде табачного дыма: вдохнул и тут же выпустил в воздух. Не помогали даже наказания за грабеж и насилие, которые Хажи-Ражаб с удовольствием приводил в исполнение.
Иногда я казался самому себе малышом-несмышленышем, что старательно «печет пироги» из песка и гальки, а они рассыпаются от первого дуновения ветра.
Угрожающе возрастало противодействие горцев: все больше народу вступало в истребительные отряды. Все труднее становилось предупреждать Казанби о предстоящих рейдах истребителей, из которых особенно настойчивыми, упорными, смелыми оказались женщины-горянки.
И стала шайка у Казанби рассыпаться, как пирог из гальки.
Не побоялся я встретиться в ущелье Совы с одной группой головорезов, что откололись от Казанби и Хажи-Ражаба. На мои увещевания они ответили насмешкой:
— Мы не бараньи кишки, чтобы нас шпиговать!
— И мы носим папахи, не ты один! — нагло добавил их главарь Килич.
— Вы ожесточаете народ, а это не в наших интересах. Надо завоевать уважение населения, его симпатии, если хотите посвятить себя благородной цели…
— Нашел благородных!.. Мы бандиты — и баста. Отомстим за свои обиды на этом свете, а там пусть будет что угодно. У нас у каждого есть своя жертва на примете.
— Да вас же ощиплют, как кур! И так нас мало; вернитесь в отряд Казанби.
— А мы самостоятельные!
— Что же вы делаете?! Даже собаки разных пород объединяются, завидев волка. А вы…
— Эй, потише, чернильная душа! Мы не собаки, мы еще люди! — крикнул Килич.
— Чего вы хотите добиться? Где ваши идеи?
— И без идей обойдемся. Наша идея — месть!
— Вы губите общее дело!
— Ха-ха-ха! Общее дело? Вы, праведные разбойники, так же грабите и насилуете, как и мы, неправедные… Эй, Мутай из Чихруги, учитель, не нюхавший пороха, обучай сопливых детей, а нас оставь. Мы всё понимаем! Нечего ждать новых времен, о которых вы болтаете. Мы люди обреченные. Чего ж, смиренно сидеть под кустом, пока горянки из истреботрядов нас поубивают? Не-ет! Мы умрем, но и они поплачут!.. Немцы уже застряли. Слыхал про Сталинград? Выдохся немец, все! У русских это старый приемчик: отдать врагу половину своей земли, а потом кровью и телами противника ее удобрять… Думаем, и теперь так будет. А бороться с советской властью у нас нет ни сил, ни охоты.
Так рассуждал Килич, перематывая портянки и переобуваясь.
Я хотел возразить, но тут послышались выстрелы, прибежал дозорный и, запыхавшись, сообщил:
— Мы окружены, Килич. Нас предали!
— Кто предал?! — вскочил главарь и выхватил револьвер. — Уж не ты ли навел истребителей, Мутай из Чихруги? Ну, погоди же, чарык сыромятный… Привязать его к дереву! Мы еще вернемся сюда… И если это твоих рук дело, — клянусь, что освежую тебя, как барана, и шкуру натяну на барабан!
Бесцеремонно, грубо меня посадили под дикую яблоню и прикрутили жестким арканом так, что не мог пошевелиться. Не слушали ни просьб, ни угроз. Надвигался вечер, и я с ужасом подумал, что ущелье Совы издавна кишит зверьем.
— Ребята! — кричал Килич. — Попробуем вырваться. Неужели опять женщины? Нет хуже вооруженной горянки. Недаром говорят: если бык опоздает броситься, бросается корова. Ха-ха-ха!
— Это не женщины, а солдаты.
— Солдаты? Откуда они взялись?! И много?
— Хватит для нас…
— Вырваться, вырваться надо! — И Килич, как зверь, почуявший приближение смерти, растерянно оглянулся. — За мной! Выберемся по тому склону и через скалы. Только бы перевалить гору! А там, в пешере. и шайтан не найдет!
И они побежали.
Я видел, как на противоположном склоне их всех скосил пулеметный огонь, как, корчась, Килич схватился за ствол дерева, пытаясь удержаться на ногах, но не удержался и рухнул. И тогда я понял, что советская власть всерьез взялась за всех лесных недругов, «друзей справедливости» и прочие шайки и банды. Черт с ними, с этими Киличами да их подручными: были они обречены и погибли бесславно и бесцельно. Но что же будет с отрядом Казанби и Хажи-Ражаба? Неужели вновь, не успев взойти, закатилась моя звезда?
Попытался освободиться, чтоб добраться до Казанби и предупредить об опасности. Но аркан из конского волоса был слишком для меня прочен. Тут набежали солдаты, увидели меня, перерезали аркан и привели к своему командиру. И вновь я вздрогнул и похолодел от неожиданности: передо мной опять стоял комиссар Мирза Харбукский. Веки мои поднялись, зрачки расширились, руки одеревенели, я стоял полумертвый…
— Погодите, я вас знаю! — воскликнул Омар; конечно, это был он, сын Мирзы.
— Да, я Мутай из Чихруги.
— Да, да. Ну, что вы делали в этом зверином логове?
— Мы нашли его, товарищ капитан, привязанным к дереву! — опередил мой ответ один из солдат.
— Да, Омар, я обязан вам жизнью! — произнес я заплетающимся языком. — Они схватили меня на дороге и привели сюда… Эти мерзавцы, трусы! Нет предела их подлости. И это, когда враг у ворот Дагестана…
— Допустим, враг уже не у ворот Дагестана, — поправил меня Омар. — Немцы уже отброшены, Мутай из Чихруги, волна теперь катится обратно. А вот что такой трусости нельзя было ожидать от людей, вскормленных грудью горянки, ты прав.
— Никогда не забуду этого, Омар! Эти бездомные собаки не пожалели бы даже меня, простого инспектора по школам… Я обязан вам!
— Ничем вы мне не обязаны. Мы выполняем свой долг. Ступайте спокойно домой.
И я ушел.
Все время, почтенные мугршщы, я жаловался вам, что меня, как зайца собаки, травили неудачи. На этот раз меня, наоборот, постигла большая удача: не привяжи меня Килич к дереву, не пришлось бы теперь рассказывать о прошлом…
Пока я выбирался из ущелья Совы, особые отряды чекиста Омара, а с ними и местные истребители двинулись в сторону Апраку, верховые и пешие, с ручными и вьючными пулеметами. И я понял, что все погибло.