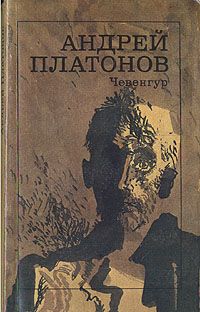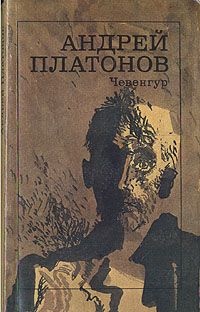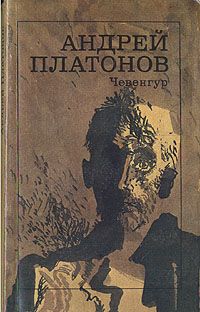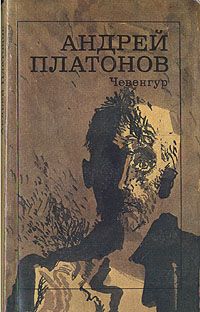Соня свернулась, чтобы чувствовать свое тело и греться им, и начала засыпать. Ее темные волосы таинственно распустились по подушке, а рот открылся от внимания к сновиденью. Она видела, как вырастали черные раны на ее теле, и, проснувшись, она быстро и без памяти проверила тело рукой.
В дверь школы грубо стучала палка. Сторож уже стронулся со своего сонного места и возился со щеколдой и задвижкой в сенях. Он ругал беспокойного человека снаружи:
— Чего ты кнутовищем-то сόдишь? Тут женщина отдыхает, а доска дюймовая! Ну, чего тебе?
— А что здесь находится? — спросил снаружи спокойный голос.
— Здесь училище, — ответил сторож. — А ты думал, постоялый двор?
— Значит, здесь одна учительница живет?
— А где же ей по должности надо находиться? — удивлялся сторож. — И зачем она тебе? Разве я тебя допущу до нее? Охальник какой!
— Покажи нам ее.
— Ежели они захочут — так поглядишь.
— Пусти, кто там? — крикнула Соня и выбежала из своей комнаты в сени.
Двое сошли с коней — Мрачинский и Дванов.
Соня отступилась от них. Перед ней стоял Саша, обросший, грязный и печальный.
Мрачинский глядел на Софью Александровну снисходительно: ее жалкое тело не стоило его внимания и усилий.
— С вами еще есть кто-нибудь? — спросила Соня, не чувствуя пока своего счастья. — Зовите, Саш, своих товарищей, у меня есть сахар, и вы будете чай пить.
Дванов кликнул с крыльца и вернулся. Пришел Никита и еще один человек — малого роста, худой и с глазами без внимательности в них, хотя он уже на пороге увидел женщину и сразу почувствовал влечение к ней — не ради обладания, а для защиты угнетенной женской слабости. Звали его Степан Копенкин.
Копенкин всем поклонился, с напряженным достоинством опустив свою голову, и предложил Соне конфетку-барбариску, которую он возил месяца два в кармане неизвестно для кого.
— Никита, — сказал Копенкин редко говорящим, угрожающим голосом. — Свари кипятку на кухне, проведи эту операцию с Петрушей. Пошукай у себя меду — ты всякую дрянь грабишь: судить я тебя буду в тылу, гаду такую!
— Откуда вы знаете, что сторожа зовут Петром? — с робостью и удивлением спросила Соня.
Копенкин привстал от искреннего уважения:
— Я его, товарищ, лично арестовал в имении Бушинского за сопротивление ревнароду при уничтожении отъявленного имущества!
Дванов обратился к испуганной этими людьми Соне:
— Ты знаешь, это кто? Он командир полевых большевиков, он меня спас от убийства вон тем человеком! — Дванов показал на Мрачинского. — Тот человек говорит об анархии, а сам боялся продолжения моей жизни.
Дванов смеялся, он не огорчался на прошлое.
— Такую сволочь я терплю до первого сражения, — заявил Копенкин про Мрачинского. — Понимаете, Сашу Дванова я застал голым, раненым на одном хуторе, где этот сыч с отрядом кур воровал! Оказывается, они ищут безвластия! Чего? — спрашиваю я. — Анархии, говорят. Ах, чума вас возьми: все будут без власти, а они с винтовками! Сплошь — чушь! У меня было пять человек, а у них тридцать: и то я их взял. Они же подворные воры, а не воины! Оставил в плену его и Никитку, а остальных распустил под честное слово о трудолюбии. Вот погляжу, как он кинется на бандитов, — так ли, как на Сашу, иль потише. Тогда я его сложу и вычту.
Мрачинский чистил щепочкой ногти. Он хранил скромность несправедливо побежденного.
— А где же остальные члены войска товарища Копенкина? — спросила Соня у Дванова.
— Их Копенкин отпустил к женам на двое суток, он считает, что военные поражения происходят от потери солдатами жен. Он хочет завести семейные армии.
Никита принес мед в пивной бутылке, а сторож — самовар. Мед пах керосином, но все-таки его съели начисто.
— Механик, сукин сын! — осердился Копенкин на Никиту. — Мед в бутылку ворует: ты больше его мимо пролил. Не мог корчажку найти!
И вдруг Копенкин воодушевленно переменился. Он поднял чашку с чаем и сказал всем:
— Товарищи! Давайте выпьем напоследок, чтобы набраться силы для защиты всех младенцев на земле и в память прекрасной девушки Розы Люксембург! Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей!
— Отлично! — сказал Мрачинский.
— Всех угробим! — поддакнул Никита и перелил стакан в блюдце. — Женщин ранить до смерти недопустимо.
Соня сидела в испуге.
Чай был выпит. Копенкин перевернул чашку вверх дном и стукнул по ней пальцем. Здесь он заметил Мрачинского и вспомнил, что он ему не нравится.
— Ты иди пока на кухню, друг, а через час лошадей попоишь… Петрушка, — крикнул Копенкин сторожу. — Покарауль их! Ты тоже ступай туда, — сказал он Никите. — Не хлестай кипяток до дна, он может понадобиться. Что ты — в жаркой стране, что ль?
Никита сразу проглотил воду и перестал жаждать. Копенкин сумрачно задумался. Его международное лицо не выражало сейчас ясного чувства, кроме того, нельзя было представить его происхождения — был ли он из батраков или из профессоров, — черты его личности уже стерлись о революцию. И сразу же взор его заволакивался воодушевлением, он мог бы с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища.
Но воспоминания делали Копенкина снова неподвижным. Иногда он поглядывал на Соню и еще больше любил Розу Люксембург: у обоих была чернота волос и жалостность в теле; это Копенкин видел, и его любовь шла дальше по дороге воспоминаний.
Чувства о Розе Люксембург так взволновали Копенкина, что он опечалился глазами, полными скорбных слез. Он неугомонно шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты.
— Моя любовь теперь сверкает на сабле и в винтовке, но не в бедном сердце! — объявил Копенкин и обнажил шашку. — Врагов Розы, бедняков и женщин я буду косить, как бурьян!
Прошел Никита с корчажкой молока. Копенкин махал шашкой.
— У нас дневного довольствия нету, а он летошних мух пугает! — тихо, но недовольно упрекнул Никита. Потом громко доложил: — Товарищ Копенкин, я тебе на обед жидких харчей принес. Чего бы хошь доставил, да ты опять браниться будешь. Тут мельник барана вчерашний день заколол — дозволь военную долю забрать! Нам же полагается походная норма.
— Полагается? — спросил Копенкин. — Тогда возьми военный паек на троих, но свесь на безмене! Больше нормы не бери!
— Тогда контрреволюция будет! — подтвердил Никита со справедливостью в голосе. — Я казенную норму знаю: кость не возьму.
— Не буди население, завтра питание возьмешь, — сказал Копенкин.
— Завтра, товарищ Копенкин, они спрячут, — предвидел Никита, но не пошел, так как Копенкин не любил входить в рассуждения и мог внезапно действовать.
Уже было позднее время. Копенкин поклонился Соне, желая ей мирного сна, и все четверо перешли спать к Петру на кухню. Пять человек легло в ряд на солому, и скоро лицо Дванова побледнело ото сна; он уткнулся головой в живот Копенкину и затих, а Копенкин, спавший с саблей и в полном обмундировании, положил на него руку для защиты.
Выждав время всеобщего сна, Никита встал и осмотрел сначала Копенкина.
— Ишь, сопит, дьявол! А ведь добрый мужик!
И вышел искать какую-либо курицу на утренний завтрак. Дванов заметался в беспокойстве — он испугался во сне, что у него останавливается сердце, и сел на полу в пробуждении.
— А где же социализм-то? — вспомнил Дванов и поглядел в тьму комнаты, ища свою вещь; ему представилось, что он его уже нашел, но утратил во сне среди этих чужих людей. В испуге будущего наказания Дванов без шапки и в чулках вышел наружу, увидел опасную, безответную ночь и побежал через деревню в свою даль.
Так он бежал по серой, светающей земле, пока не увидел утро и дым паровоза на степном вокзале. Там стоял поезд перед отправкой по расписанию.
Дванов, не опомнясь, полез через платформу в душившей его толпе. Сзади него оказался усердный человек, тоже хотевший ехать. Он так ломил толпу, что на нем рвалась одежда от трения, но все, кто был впереди него — и Дванов среди них, — нечаянно попали на тормозную площадку товарного вагона. Тот человек вынужден был посадить передних, чтобы попасть самому. Теперь он смеялся от успеха и читал вслух маленький плакат на стене площадки:
«Советский транспорт — это путь для паровоза истории».
Читатель вполне согласился с плакатом: он представил себе хороший паровоз со звездой впереди, едущий порожняком по рельсам неизвестно куда; дешевки же возят паровозы сработанные, а не паровозы истории; едущих сейчас плакат не касался.
Дванов закрыл глаза, чтобы отмежеваться от всякого зрелища и бессмысленно пережить дорогу до того, что он потерял или забыл увидеть на прежнем пути.
Через два дня Александр вспомнил, зачем он живет и куда послан. Но в человеке еще живет маленький зритель — он не участвует ни в поступках, ни в страдании — он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба — это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события.