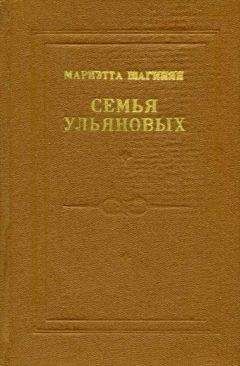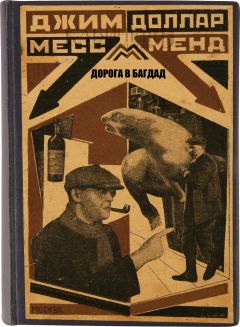Народные учители выходили из вагонов III класса с напряженными от бессонницы лицами, они тоже не спали, — не спали от волненья перед близкой встречей с Москвой. Одетые по-разному — одни в обычной городской одежде, именовавшейся в те годы «немецкой»; другие — в русских кумачовых рубахах, чисто постиранных, в поддевках и шароварах, собранных в смазные сапоги, блестевшие от дегтя, — они были схожи друг с другом радостной возбужденностью. На перроне, — взволнованный, пожалуй, не меньше, чем эти первые ласточки Выставки, — стоял, вытянувшись и держа свою мягкую шляпу в руке, Федор Иванович Чевкин. Иностранцев ждали не раньше как дней через пять. И ему поручили встретить покуда первую группу народных учителей, помочь им ориентироваться в Москве и добраться до Экзерциргауза, где наверху, на хорах, в специально отведенной комнате представитель Министерства народного просвещения принимал и регистрировал делегатов.
— Ох, хорошо, что встретили, — говорил, радостно здороваясь с Чевкиным, Никифор Иванович Богодушный, старшина всей группы, — а не то бы мы рассыпались по Москве, как из лукошка. Сговорились было держаться вместе, повыспросить, да идти пешочком, но нашлись у нас несогласные, желающие действовать отдельно. А ведь я отвечаю, господин. Ну теперь хочешь не хочешь, иди с нами вместе!
И он почти сердито повернулся к невзрачному парню в картузе и городском длиннополом сюртуке, стоявшему в стороне.
Парень исподлобья, со скрытым недоверием, смотрел на Чевкина. Всю дорогу он спорил, доказывая другим, что на свете все равно нет справедливости и вот хоть бы к примеру: им, главным, кому Выставка назначена, выдали по сто рублей на человека, а на сто рублей в Москве никак не прожить; зато инспекторам отмахали по триста, по двести. Спорил он и о том, что увидят на Выставке, заранее во всем сомневаясь. А сейчас, когда их учтиво встретил барин с белокурыми бачками, он сразу решил, что это неспроста. Барин приставлен к ним для наблюдения, но его, Семиградова, не проведешь. Он будет стоять на своем, а другие пусть как сами хотят. Но когда все двинулись с вокзала за Чевкиным, а Богодушный, узнав имя-отчество белокурого, стал запросто, на каждом шагу, величать его Федором Ивановичем и тот с живостью отвечал на вопросы, Семиградов вдруг почувствовал глухую обиду. Эту странную обиду он знал за собой всю свою короткую жизнь, в семье, в школе и учительствуя. Мать спросит, бывало, кому еще подложить картошки или подлить щец, а он мотнет, отнекиваясь, головой; но когда другим подольют и подложат, а ему нет, он словно бы и не отнекивался, до того станет обидно и злоба на мать: почему не дала? Почему другим, а мне ничего? Коли я отказался из вежливости, ты мне больше, чём другим, дай — думал он своей особой кривой логикой. И эта кривая логика так и выросла с ним вместе, мешая ему жить и быть счастливым. Он считал свою психику особо тонкой, и ему хотелось, чтоб его поняли и удивлялись ему. Ночью в поезде все опять обернулось криво. Получив свои сто в Казани, Семиградов даже дрогнул внутренне, — такой большой и солидной показалась ему его сотня, — а когда все заговорили о том же, радуясь, что их, народных учителей, не забыли и они тоже увидят Выставку, и какие это большие деньги, сто рублей на три недели, — он вдруг, словно черт его укусил, принялся издеваться и доказывать обратное. Семиградову сейчас — мочи нет, как хотелось идти вместе со всеми и слушать, что говорит Чевкин. Но вместо этого он таинственно, незаметно для других, знаком подозвал к себе самого младшего из их компании, пензенского Васю Шаповалова, из одного с ним уезда, и, отстав от группы, шепнул ему:
— Очень не распространяйся, будь осторожен! Я сейчас тут сверну, отделюсь от вас, а ты, гляди, не болтай. Неизвестно кого приставили — это тебе не деревня.
Вася не успел опомниться, как Семиградов, махнув ему рукой, попятился в переулок и скрылся от них за углом. Никто ничего не заметил, и все пошли дальше, а Вася Шаповалов, со смутным ужасом в душе, поплелся за ними, потеряв вдруг свое ликующее настроение.
Переулок, куда свернул Семиградов, был грязный-прегрязный, и наш парень шел, осуждая Москву за то, что она никак не лучше деревни. Червячок, сосавший его, казался ему критическим: он как бы оправдывал глупое поведение, уход от группы. Но Семиградов знал где-то в самых потемках души, что ему больно и никакая критика не спасет его от собственного уничиженья. Чтоб справиться с охватившим его чувством глубокого стыда, он ускорил шаги, стал посвистывать, стал смотреть по сторонам. Переулок влился в другой, почище; а тот — в широкую улицу, какой Семиградову не приходилось видеть в своем уезде, но и здесь было над чем поиздеваться: город, а хвастают молоком! На углу была вывеска во всю ширину двери: Молочные О. К. Ржевского, и дальше оповещалось, что открыта ежедневная продажа молока, творогу, сметаны, простокваши, варенцов и каймаков…
Семиградов шагал по Москве, читая одну за другой вывески:
«Магазин белья госпожи Кипман. Дамские юбки, кофты, капоты, чепчики и воротнички…»
«Сдается квартира, пол парке…»
Семиградов не понял, что такое парке, и решил, что квартира с половиной парка.
Дальше, дальше… «Магазин А. Триака. Большой выбор заграничных сак-де-вояж, порт-моне, искусственных глаз». «Рояли Блютнер (из Лейпцига), Бехштейн (из Берлина), Штейнвег (из Брауншвейга), Эрар (из Парижа) — все по американской системе с полными металлическими рамами, в магазине Рудольфа Николаи, на углу Тверской и Газетного…» Продалась, что ли, Москва иностранцам?
А вот русская надпись, парикмахер Чедаев: «Работа усовершенствования. Продажа французских цветов, шиньоны, косы, локоны». И тот за французами! Солодовников… Юбки, волосяные турнюры. Что такое турнюры в дамской одежде — Семиградов, деревенский житель, не знал. Настроение его улучшилось. Червячок, сосавший под ложечкой, стал совершенно походить на критический. Он думал: «Пусть они там ахают и охают, глядя приставленному человеку в рот. Ничего они там не увидят. Я гляжу самостоятельно. Вы не видите, а я вижу — пропахла Москва иностранным жульем. Только и есть русского что деревенское молоко. Вот они все у меня в книжке: Триак, Николаи, Кипман… Наберу еще десяток-другой». И он шел и шел к центру Москвы, не глядя ни на что, кроме вывесок.
Федор Иванович между тем успел разговориться со своей группой. Он уже знал, кто откуда, и ему очень понравился обстоятельный Никифор Иванович Богодушный, самый, видимо, старший по возрасту в группе. Все-то он хотел знать и на все успеть посмотреть. И хотя на самое интересное, по мнению Чевкина, — акт в Московском университете, — билеты для них не были предусмотрены, он на свой страх и риск, покуда они, зарегистрировавшись, устраивались в гостинице, — сбегал сам в университет и раздобыл для них входные билеты.
Было уже около одиннадцати, когда, умывшись с дороги и расчесав своими деревянными гребнями волосы, народные учители под предводительством Федора Ивановича двинулись на Выставку. Он повел их, чтоб соблюсти всю, предложенную ему в Комитете, программу, прежде всего к тому месту на набережной, откуда можно было видеть спуск и прохождение по реке ботика. Но к спуску они уже опоздали. «Дедушка русского флота», отправленный в Москву на особой платформе, уже в понедельник, 29 мая, без четверти двенадцать ночи, прибыл на вокзал, где, несмотря на позднее время, торжественно встретили его контр-адмирал Рудаков, командующий войсками Московского военного округа генерал-адъютант Гильденштуббе депутаты Выставочного комитета. Наутро его разубрали флагами, подняли гюйс и штандарты, сохранившиеся со времен Петра, и с настила, установленного перед фасадом Воспитательного дома, по лестнице, крытой коврами, в сопровождении тридцати одетых в белую парусину матросов спустили на реку.
В этот день, вторник 30-го, небо было без облачка, солнце лилось на землю, как среди лета. Людей на набережной — ни встать, ни пройти, и не видать ничего за их спинами. Но зато народные учители услышали торжественный залп в одиннадцать часов утра, а кое-кто из них, взобравшись на тумбу, увидел, как ботик шел на буксире парохода, полного знати на борту. В толпе жадно выкликали: вон-вон — у самого борта — великий князь Костантин, а с ним — видите, тощий такой — наш предводитель, князь Мещерский… Но выряженный, как невеста, ботик невесть почему опять казался сердитым и угрюмистым: совсем как невеста у Лажечникова в «Ледяном доме».
А вокруг было удивительно хорошо. Вместе с шелестом воды плыла духовая музыка. Щетинистый ботик, быть может, обиженный, что его тянут на буксире, шел и шел за пароходом. И москвичи, чтоб лучше его разглядеть, спускались к самой реке, а многие по колено входили в воду.
— Теперь пойдемте на самую Выставку — с главного входа, — сказал Федор Иванович, выводя своих подопечных из толпы и направляя их в сторону Иверской.