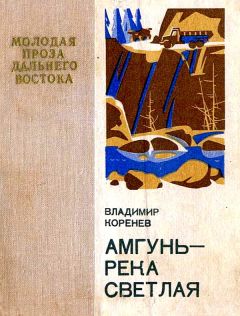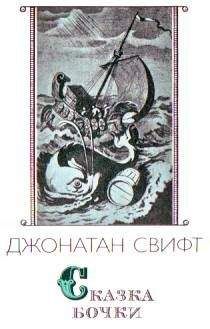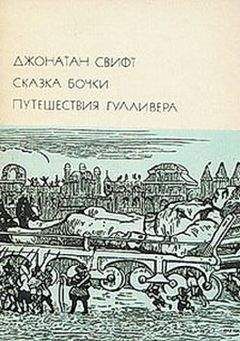А потом он быстро и четко выполнял то, о чем она его просила, и они смеялись по всякому пустяку, и Дениска, счастливый, уже готов был идти за своей любимой на край света, защищать ее от любых врагов.
И многое ему чудилось другое, о чем он бы никому и никогда не сказал, даже Ирине, потому что и сам-то краснел от этих мыслей, и ему становилось жарко.
И Дениска, чтобы охолонуть немного, схватился за ведра, стреканул к ручью. Несся по тропке пулей, сияя от радости и ничего не замечая вокруг: что день изменился, солнца нет и в помине, а тучки, что еще утром заметил над горами Лешка Шмыков, расползлись по всему небу, что стало темно и нудил мелкий въедливый ситник.
Но Дениска ничего этого не замечал. Бежал к ручью легко и красиво молодым и сильным оленем через серебряные струи дождя.
Нет, что ни говорите, а мир прекрасен и удивителен!
— Удивителен! Уди-ии-вите-елен! Ми-и-ир! — протрубил Дениска и остановился, склонил набок голову, прислушался, ожидая эха. Лицо его сияло от радости, переполнявшей его. Эхо вернулось, а он все еще продолжал стоять и улыбаться, а потом вместе с ведрами бухнулся с маху на дурманяще ударивший запахом багульник грудью, перевернулся на спину:
— Обалдел я! — И рассмеялся: — Обалдел!
А дождь разошелся не на шутку — зацокал, зацокал по пустым ведрам, зашуршал по жухлой листве все чаще, все сильнее, так что монтажники завалились в столовую мокрые и загалдели, матеря на чем свет стоит дьявольскую погоду, задымили было, но Ирина шикнула на них — столпились у выхода, докуривая сигареты.
Лешка Шмыков приклеился к Дениске:
— Ну, как дела, Корчагин?
— Как сажа бела! — лихо ответствовал Дениска, находясь все еще в том непривычном радужном состоянии, в которое определил его Иринин поцелуй. Да и что, кто ему Лешка Шмыков? Бог ты мой, он только и умеет — насмешничать.
А тут и другие монтажники стали подходить, и все к Дениске:
— Что там на обед сварганил, Денис? — И тянули носами: — Вкусна-а! — И гадали: — Борщ, а?
Стрыгин прибежал.
— О! Есть чем заправиться! Чует мое сердце — есть.
— Иди хоть руки помой, горе луковое! — укорила его Ирина. — Еще и за стол с такими руками сядешь!
— А чего садиться, если скамеек нет? — зацепился Лешка. — Мы уж стоя!
— Бедненькие какие!
— Хватит балаболить — мечи на стол! — прогрохотал Лыкин и сунул пустую чашку Ирине: — Валяй две порции!
— И в дождь, что ли, пойдете? — с тревогой спросила Ирина.
— А что нам дождь? Дождь — несознательный элемент. Давай, мать, не тяни резину! Жрать хоцца!
Ирина налила в его чашку по края и кусок мяса положила. Лыкин осклабился довольно, протянул руки, но Ирина ловко обвела его:
— Алексей!
И вручила чашку Лешке Шмыкову. Лешка такого хода не ожидал — раскрыл рот, да горячий борщ дал о себе знать — понесся Лешка к столу пулей.
Лыкин подступил к Ирине:
— Это ты чего фокусничаешь?
— А то! — И привстав на носки, попыталась поверх чубатых голов отыскать Лешку. — Как борщ, Леша? — Глаза сияют.
— Блеск! — орет Лешка и довольно смеется.
Этого Дениска стерпеть уже не мог. Чуть ли не бегом вылетел из столовой на вольный воздух, завернул за вагончик, притулился к задней стенке и расслабился там, скрытый от чужих глаз. Никого не хотел он сейчас видеть, да и чтобы другие видели его — не хотел.
А погода плакала, кто знает, может, за Денискины обиды: на небе беспросветно, гор не видно — там плывет туман. Тайга — нахмуренные брови, кругом стекленятся лужи, и тихо, глухо вокруг, только слышно, как хлюпает по брезентухе да по окатистой крыше вагончика дождь.
Дениска вспомнил водителя КрАЗа, подумал, что тот сейчас где-то в дороге, дождь закрапал ветровое стекло, и пришлось ему включить «дворник». Он тикает, как часы. А может, КрАЗ засел где-нибудь. Мало ли что… Но лучше бы повезло шоферу, думает Дениска, он целую неделю мотается по дорогам и спит и ест в кабине.
И вдруг острая зависть к водителю кольнула Дениску: уж его-то никто не назовет бузотером! Или пусть Черноиванов попробует назвать так Лыкина. Не посмеет — духу не хватит: Лыкин монтажник что надо. Они работают так: себя не жалеют. Надо — значит, надо, и на том конец. Дениска вздохнул тяжело, со всхлипом: «А меня в столовую сунули — тоже надо, говорят. Только не спросили, хочу или нет работать в столовой, когда все надрываются на тупике». И от этого обидно было Дениске непереносимо.
Он качнул головой над горькой своей судьбой, смежил глаза, ожидая еще слез, но слез уже не было — или кончились, или обида эта не коснулась так больно сердца, как в первый раз, или помешала им подвернувшаяся неожиданно мысль, что жалеют его здесь и берегут от тяжелой работы до поры. Только зачем ему эта жалость?
— Зачем? — всхлипнул Дениска.
Карчуганов, сбежав по всходнушке, воровато оглядевшись, завернул за вагончик, привалился было к стенке, да отпрянул, увидев Дениску.
— Денис?! — Вздохнул облегченно: — Фу, дьявол, напугал!
Сделал свое дело, подошел:
— А чего мокнешь-то? — Догадываясь, свел сурово брови: — Обидел кто? Ну, говори — любому голову сверну. Леха?
Кулаки сжал, бороду подклочил снизу тычком, сузил татарские глаза в гневе.
— Нет, — опасаясь за Лешку, заторопился Дениска, — обидно мне. Просто обидно, понимаешь? Меня в столовую сунули…
— Понятно… Не хочешь. — Замолчал глубокомысленно, посмотрел на Дениску: — Ясное дело…
Постояли, сгорбившись под дождем, подумали.
— А чего ж молчишь? — грубо спросил Карчуганов.
— А кому скажешь?
Доверительно, тихо сказал. В Карчуганове сквозь его суровость и наружную хищность Дениска угадывал и в глазах и в жестах доброту, скрытую от невнимательного человека. А порой казалось ему, что Карчуганов при всей своей доброте и порядочности может плохо кончить — слишком много в нем взрывчатой силы, ему не подвластной. Случись что-то не по нему — рубанет сплеча, и все…
И сейчас: вырвалось у Дениски слово, глянул он на Карчуганова и пожалел о сказанном — налился гневом Карчуганов, сильными плечами передернул дрожко, облапил Дениску, решительно потянул за собой:
— Айда к Лыкину!
— Да Лыкин при чем? — заупрямился Дениска, но Карчуганов, кажется, и не слышал его, втянул по всходнушке, торкнул дверь ногой. В столовой тяжело подступил к Лыкину:
— Ты скажи, Федор, парня в столовую запряг, а его желание спросил?
Лыкин, не глядя на него, усмехнулся криво, равнодушно спросил:
— Может, ты имеешь желание заменить его?
Монтажники хохотнули, уставились, насмешливо ожидаючи, на Карчуганова. Харитон часто заморгал глазами, в их глубине мелькнула такая растерянность, что Дениске стало его до боли жаль. Но это длилось только одно мгновение. В следующее — Карчуганов косанул горячими татарскими глазами по лицам монтажников, остановился на Лыкине, играя желваками, спросил:
— Ты что, за идиота меня принимаешь?
— Глупости, — равнодушно и совсем не замечая его взвинченности, проговорил Федор Лыкин. — Глупости городишь, Харитон, несешь всякую чепуху. Да я потому и поставил на кухню Дениса, что тебя можно за маневровый паровоз использовать. А он еще успеет навкалываться, поимеет такое удовольствие.
Карчуганову, видно, понравился ответ бригадира, он спокойно заявил:
— А человеку обидно. Ведь обидно, Денис? Скажи! Несправедливо?
— Продумать этот вопрос надо, — вмешался Лешка Шлыков, — график ввести. А одному все время оно — хреново. Можно повеситься.
И все с ним согласились.
— По справедливости надо, — буркнул и Некий Патрин. — Денис — не козел отпущения.
Лыкин пошевелил бровями, зачем-то потрогал сухие свои щеки и в полном молчании объявил, что здесь надо еще подумать. Все охотно сказали «конечно» и повалили за Лыкиным на улицу.
Монтажников сменили Архипов и Черноиванов. Архипов, войдя, пожаловался на дождь:
— Насквозь проклевал, зараза! — И, придерживая локтем дверь, выжал за порогом белую лыжную шапочку.
Черноиванов стянул с тугих плеч мокрую кожанку, остался в свитере, крепко ступая, прошелся вдоль стола; с силой потирая влажные руки, вспомнил:
— Умывальник сюда нужно, Саня, полотенце, мыло.
— Много чего нужно, — сказал Архипов. — Больше чем до черта: тупик наладить и перекочевать, два домика щитовых собрать, а то придется зиму в этих вагончиках кукарекать. Бр-р!.. Как вспомнишь, так вздрогнешь! Мы на Воркуту трассу вели, Косью — Воркута. Зона вечной мерзлоты, морозы за сорок заворачивают, а мы в таких вагончиках. А то Абакан — Тайшет. Сдохнешь!
— А где там?
— На станции Кошурниково.
— Слушай, вот не повезло мужикам!.. Изыскатели… Их, кажется, трое было.
— Трое: Кошурникова, Дуравлев, Стофато.
— И все погибли…