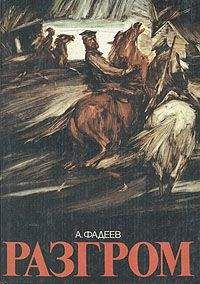Их было четверо, они играли в карты за столом, в глубине комнаты. По правую руку сидел маленький старый попик в прилизанных волосиках и юркий на глаз, — он ловко сновал по столу худыми, маленькими ручками, неслышно перебирая карты игрушечными пальцами и стараясь заскочить глазами под каждую, так что сосед его, сидевший спиной к Метелице, принимая сдачу, просматривал ее боязно и торопливо и тотчас же прятал под стол. Лицом к Метелице сидел красивый, полный, ленивый и, как видно, добродушный офицер с трубкой в зубах, — должно быть, из-за его полноты Метелица принял его за начальника эскадрона. Однако во все последующее время он, по необъяснимым для себя причинам, интересовался больше четвертым из игравших — с лицом обрюзглым и бледным и с неподвижными ресницами, тот был в черной папахе и в бурке без погон, в которую кутался каждый раз после того, как сбрасывал карту.
Вопреки тому, что ожидал услышать Метелица, они говорили о самых обыкновенных и неинтересных вещах: добрая половина разговора вертелась вокруг карт.
— Восемьдесят играю, — сказал сидевший к Метелице спиной.
— Слабо, ваше благородие, слабо, — отозвался тот, что был в черной папахе. — Сто втемную, — добавил он небрежно.
Красивый и полный, прищурившись, проверил свои и, вынув трубку, поднял до ста пяти.
— Я пас, — сказал первый, отворачиваясь к попику, который держал прикуп.
— Я так и думал… — усмехнулась черная папаха.
— Разве я виноват, если карты не идут? — оправдываясь, говорил первый, обращаясь за сочувствием к попику.
— По маленькой, по маленькой, — шутил попик, сожмуриваясь и посмеиваясь мелко-мелко, точно желая подчеркнуть таким мелким смешком всю незначительность игры своего собеседника. — А двести два очка уже списали-с… знаем мы вас!.. — И он с неискренней ласковой хитрецой погрозил пальчиком.
«Вот гнида», — подумал Метелица.
— Ах, и вы пас? — переспросил попик ленивого офицера. — Пожалуйте прикуп-с, — сказал он черной папахе и, не раскрывая карт, сунул их ей.
В течение минуты они с ожесточением шлепали по столу, пока черная папаха не проиграла. «А задавался, рыбий глаз», — презрительно подумал Метелица, не зная — уходить ли ему или подождать еще. Но он не смог уйти, потому что проигравший повернулся к окну, и Метелица почувствовал на себе пронзительный взгляд, застывший в страшной немигающей точности.
Тем временем сидевший спиной к окну начал тасовать карты. Он делал это старательно и экономно, как молятся не очень древние старушки.
— А Нечитайлы нет, — зевая, сказал ленивый. — Как видно, с удачей. Лучше бы и я с ним пошел…
— Вдвоем? — спросила папаха, отвернувшись от окна. — Она бы сдюжила! — добавила она, скривившись.
— Васенка-то? — переспросил попик. — У-у… она бы сдюжила!.. Тут у нас здоровенный псаломщик был — да ведь я вам рассказывал… Ну, только Сергей Иванович не согласился б. Никогда-с… Знаете, что он мне вчера по секрету сказал? «Я, говорит, ее с собой возьму, я, говорит, на ней и жениться не побоюсь, я, говорит…» Ой! — вдруг воскликнул попик, закрывая рот ладошкой и хитро поблескивая своими умненькими глазками. — Вот память! И не хотел, да проговорился. Ну, чур, не выдавать! — И он с мнимым испугом замахал ладошками. И хотя все так же, как Метелица, видели неискренность и скрытую угодливость каждого его слова и движения, никто не сказал ему об этом, и все засмеялись.
Метелица, согнувшись и пятясь боком, полез от окна. Он только свернул в поперечную аллею, как вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком в казачьей шинели, наброшенной на одно плечо, — позади него виднелись еще двое.
— Ты что тут делаешь? — удивленно спросил этот человек, бессознательным движением придержав шинель, чуть не упавшую, когда он наткнулся на Метелицу.
Взводный отпрыгнул и бросился в кусты.
— Стой! Держи его! Держи! Сюда!.. Эй! — закричало несколько голосов. Резкие, короткие выстрелы затрещали вслед.
Метелица, путаясь в кустах и потеряв фуражку, рвался наугад, но голоса стонали, выли уже где-то впереди, и злобный собачий лай доносился с улицы.
— Вот он, держи! — крикнул кто-то, бросаясь к Метелице с вытянутой рукой. Пуля визгнула у самого уха. Метелица тоже выстрелил. Человек, бежавший на него, споткнулся и упал.
— Врешь, не поймаешь… — торжественно сказал Метелица, до самой последней минуты действительно не веривший в то, что его смогут скрутить.
Но кто-то большой и грузный навалился на него сзади и подмял под себя. Метелица попытался высвободить руку, но жестокий удар по голове оглушил его…
Потом его били подряд, и, даже потеряв сознание, он чувствовал на себе эти удары еще и еще…
В низине, где спал отряд, было темновато и сыро, но из оранжевого прогала за Хаунихедзой глядело солнце, и день, пахнувший осенним тлением, занялся над тайгой.
Дневальный, прикорнувший возле лошадей, заслышал во сне настойчивый, монотонный звук, похожий на далекую пулеметную дробь, и испуганно вскочил, схватившись за винтовку. Но это стучал дятел на старой ольхе возле реки. Дневальный выругался и, ежась от холода, кутаясь в дырявую шинель, вышел на прогалину. Никто не проснулся больше: люди спали глухим, безликим и безнадежным сном, каким спят голодные, измученные люди, которым ничего не сулит новый день.
«А взводного нет все… нажрался, видать, и дрыхнет где в избе, а тут не евши сиди», — подумал дневальный. Обычно он не меньше других восхищался и гордился Метелицей, но теперь ему казалось, что Метелица довольно подлый человек и напрасно его сделали взводным командиром. Дневальному сразу не захотелось страдать тут, в тайге, когда другие, вроде Метелицы, наслаждаются всеми земными радостями, но он не решался потревожить Левинсона без достаточных оснований и разбудил Бакланова.
— Что?.. Не приехал?.. — завозился Бакланов, тараща спросонья ничего не понимающие глаза. — Как не приехал?! — закричал он вдруг, все еще не придя в себя, но поняв уже, о чем идет речь, и испугавшись этого. — Нет, да ты, братец, оставь, не может этого быть… Ах, да! Ну, буди Левинсона. — Он вскочил, быстрым движением перетянул ремень, собрав к переносью заспанные брови, сразу весь отвердел и замкнулся.
Левинсон, как ни крепко он спал, услышав свою фамилию, тотчас же открыл глаза и сел. Взглянув на дневального и Бакланова, он понял, что Метелица не приехал и что уже давно пора выступать. В первую минуту он почувствовал себя настолько усталым и разбитым, что ему захотелось зарыться с головой в шинель и снова заснуть, забыв о Метелице и о своих недугах. Но в ту же минуту он стоял на коленях и, свертывая скатку, отвечал сухим и безразличным тоном на тревожные расспросы Бакланова.
— Ну и что ж такого? Я так и думал… Конечно, мы встретим его по дороге.
— А если не встретим?
— Если не встретим?.. Слушай, нет ли у тебя запасного шнурка на скатку?
— Вставай, вставай, кобылка! Даешь деревню! — кричал дневальный, ногами расталкивая спящих. Из травы подымались всклокоченные партизанские головы, и вдогонку дневальному летели первые, недоделанные спросонья матюки, — в хорошее время Дубов называл такие «утренниками».
— Злые все, — задумчиво сказал Бакланов. — Жрать хотят…
— А ты? — спросил Левинсон.
— Что — я?.. Обо мне разговору нет. — Бакланов насупился. — Как ты, так и я — точно не знаешь…
— Нет, я знаю, — сказал Левинсон с таким мягким и кротким выражением, что Бакланов впервые внимательно присмотрелся к нему.
— А ты, брат, похудел, — сказал он с неожиданной жалостью. — Одна борода осталась. Я бы на твоем месте…
— Идем-ка лучше умываться, — прервал его Левинсон, виновато и хмуро улыбнувшись.
Они прошли к реке. Бакланов снял обе рубахи и стал полоскаться. Видно было, что он не боялся холодной воды. Тело у него было крепкое, плотное, смуглое, точно литое, а голова круглая и добрая, как у ребенка, и мыл он ее тоже каким-то наивным ребячьим движением — поливал из ладони и растирал одной рукой.
«О чем-то я много говорил вчера и что-то обещал, и как-то неладно теперь», — подумал вдруг Левинсон, смутно и с неприязнью вспомнив вчерашний разговор с Мечиком и свои мысли, связанные с этим разговором. Не то чтобы они показались ему неправильными теперь, то есть не выражавшими того, что происходило в нем на самом деле, — нет, он чувствовал, что это были довольно правильные, умные, интересные мысли, и все-таки он испытывал теперь смутное недовольство, вспоминая их. «Да, я обещал ему другую лошадь… Но разве в этом может быть что-нибудь неладное? Нет, я поступил бы так и сегодня, — значит, тут все в порядке… Так в чем же дело?.. А дело в том…»
— Что ж ты не умываешься? — спросил Бакланов, кончив полоскаться и докрасна растираясь грязным полотенцем. — Холодная вода. Хорошо!
«… А дело в том, что я болен и с каждым днем все хуже владею собой», — подумал Левинсон, спускаясь к воде.