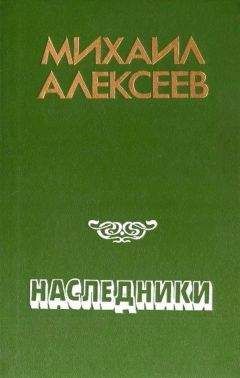— Откуда вы, молодой человек?
Нельзя сказать, чтобы вопрос прозвучал уважительно по отношению к еще незнакомому нам лейтенанту. Но Лобанов не обиделся. Он только опять как-то робко, неловко улыбнулся, и его маленькие черные глазки с несомненным восторгом уставились на моего приятеля. Меня нисколько не удивил этот взгляд. Грищенко был настоящий красавец; высок, строен, в меру горбонос, с крупным волевым ртом. Но это не все: на его новенькой гимнастерке сверкали две старательно начищенные медали «За отвагу», и это последнее обстоятельство не могло, конечно, не вызвать восторга у всякого человека, в особенности же у людей, не нюхавших пороху. А то, что Лобанов не нюхал пороху, у нас не вызывало ни малейшего сомнения. К тому же и сам он утвердил нас в этом убеждении, сказав в ответ на не слишком вежливый вопрос Петра:
— Я с курсов.
— Ну что ж, с курсов так с курсов. Вместе, значит, едем! — сказал Грищенко покровительственно. — На какую же должность?
— Командиром роты, — тихо ответил Лобанов и покраснел.
— Роты?! — Грищенко недоверчивым взглядом окинул маленькую, щупленькую фигурку. — Послушай, лейтенант, а ты не того… не загибаешь, случаем?
— Нет. Я — правду… Командиром роты связи.
Меня забавлял вид моего дружка. Петру явно не нравилось, что вот этот мальчик назначен на равную с ним должность.
Правда, Грищенко мог бы успокоить себя тем, что сам он ехал командовать не обычной, а разведывательной ротой, которая, как там ни говори, была все же на особом положении у командования и которая, пожалуй, приравнивается к батальону, в чем меня старательно убеждал Петр еще в штабе округа, где мы получали назначение. Но сейчас Грищенко, по-видимому, забыл об этом и продолжал недоверчиво выпытывать у лейтенанта.
— Рота — дело серьезное, — говорил он Лобанову веско, уверенный в том, что каждое его слово много значит для этого юнца: ведь Лобанов имеет дело не с кем-нибудь, а с фронтовиком, черт побери! — Тут, брат, голова нужна. А то можно засыпаться, — на всякий случай припугнул Грищенко. — Может, для начала тебе и взвода хватило б, а?
— Меня на роту назначили, — спокойно и как будто даже равнодушно ответил Лобанов.
— А ты б отказался. Не могу, мол, ротой…
— Как же откажешься, коль приказ? — удивился Лобанов.
— Приказ?.. — в некотором замешательстве пробормотал мой приятель и, чтобы выиграть время на обдумывание доводов, начал было рассказывать какую-то притчу из фронтовой жизни. Поведать ее он не успел: подошла наша очередь получать продукты. Досказал уже в поезде, который мчал нас по студеной и, казалось, бескрайней казахстанской степи. И, закончив, внушительно подытожил: — Вот как бывает, дружище, на фронте-то. А ты…
Кроме медалей Петр Грищенко привез с фронта не то чтобы уж очень глубокую, но все же порядочную отметину, которая лиловела на его левом предплечье. Отметина эта пользовалась у моего дружка особым вниманием: редкий час он не вспоминал о ней, любой предлог считал подходящим, чтобы рассказать о своем ранении. И часто напевал какую-то песню о ноющей ране.
Болела она у него почти всегда. Стоит чуть перемениться погоде, Грищенко начинал яростно почесывать левое предплечье, сокрушенно приговаривая: «Во… черт, покоя от нее нет». И оголял свою длинную волосатую руку. «А у тебя как, не болит?» — обращался он ко мне, чтобы, очевидно, не остаться одиноким в своем хвастовстве.
Я охотно поддерживал его: «Болит, дьявол бы ее взял совсем!» — хотя, если признаться по-честному, я уже давно забыл о том, что у меня вообще было когда-нибудь какое-то ранение. Раны наши, разумеется, давно зажили, и мы были вполне здоровы — я и мой приятель Петр Грищенко. Но что поделаешь, мы были молоды, мы не могли не похвастать тем, что уже успели пролить несколько капель своей крови за родную землю.
Ехали мы до места назначения что-то уж очень долго.
Телеграфные столбы, мелькающие за окном, белая степь, кипяток на полустанках, домино, консервы да и собственная болтовня — все это надоело до смерти, и поэтому мы страшно обрадовались, когда на шестые сутки путешествию нашему пришел конец.
Степной городок, куда мы приехали, не поразил нас ничем. Случилось это просто потому, что мы его не видели. Едва вышли на привокзальную площадь, подвернулась какая-то полуторка, которая в один час перебросила нас в лагерь из многочисленных деревянных бараков.
— Эхма! — неопределенно вздохнул Грищенко и сокрушенно свистнул, косясь на темные и угрюмые громады бараков, вокруг которых с волчьим, злым подвыванием кружила вьюга, наметая снежные курганы и косы. — Это не Ташкент, а значительно хуже… Как ты думаешь, лейтенант? — обратился он к Лобанову.
Тот промолчал. Только как-то несмело улыбнулся.
— Что, грустно? — не без ехидства осведомился у него Петр. — То-то же! Ну ладно, пошли! Авось найдем кого-нибудь. Есть же здесь хотя б одна живая душа!
Еще на вокзале мы узнали от военного коменданта, что дивизии как таковой пока что нет. Существует один лишь ее номер, и больше ничего и никого, если не считать начальника штаба да двух работников, десятка полтора молодых солдат и вот нас троих — командиров еще не существующих рот.
Лютая стужа, по-хозяйски разгуливавшая вокруг бараков, оказалась полновластной хозяйкой и внутри них: у большинства помещений не было окон.
Мы с трудом отыскали штаб и предстали перед начальником — пожилым офицером с утомленными, неласковыми глазами. Доложив о прибытии, мы подали ему свои документы. Он молча взял их и так же молча по очереди стал изучать нас сердитыми глазами.
Меньше всех начальник штаба занимался Петром Грищенко: судя по всему, командир разведроты понравился подполковнику, что называется, с первого взгляда, да Петр и впрямь выглядел орлом. Несколько дольше смотрел на меня и совсем долго — на лейтенанта Лобанова. Вероятно, щупленький вид молодого офицера не вызвал особого восторга и у подполковника.
— Вы сами пожелали командовать ротой связи? — спросил он строго, так, что Петр Грищенко шепнул мне: «Ну, дела нашего «мальчика» плохи. Жаль парня!..»
Нам действительно было жалко Лобанова: за время путешествия мы привыкли к нему; нам понравился этот застенчивый, спокойный и отзывчивый малый, который к тому же относился к нам с искренним уважением. Сейчас мы видели, как румянец утопил веснушки на широком лице Миши — так мы звали своего спутника с той минуты, как узнали его имя, — и нетерпеливо ждали, что ответит он сердитому подполковнику, не растеряется ли…
Если растеряется, тогда считай, что дела лейтенанта действительно плохи. Но Михаил ответил как-то уж очень по-будничному просто:
— Меня назначил штаб округа на эту должность, товарищ подполковник.
— А справитесь? — спросил начальник штаба. Теперь он смотрел на Лобанова уже иными глазами, нежели прежде.
— Раз мне приказано…
— Добро! — перебил его начальник штаба и улыбнулся неожиданно доброй, отечески-ласковой улыбкой, как-то хорошо осветившей его морщинистое лицо, которое, должно быть, за долгие годы беспокойной службы подполковника познакомилось с южными и северными, с западными и восточными ветрами, было многократно сечено дождевыми струями, опалено зноем и стужей.
Я догадывался о причине такой резкой перемены подполковника в отношении к маленькому лейтенанту. Она заключалась, видно, в двух словах «мне приказано», произнесенных Лобановым со спокойным достоинством.
— Ну что ж, товарищи, будем работать! — сказал начальник штаба нам всем и, обращаясь уже к одному только Лобанову, добавил: — Будем командовать, товарищ лейтенант!
Мы с Петром Грищенко все же никак не могли представить себе, как станет командовать своей ротой наш новый товарищ: уж очень мало было в нем командирского! «Его и солдаты-то, пожалуй, не будут слушать», — думал Грищенко, украдкой поглядывая на почти детское лицо Лобанова. О том же думал и я, вспоминая при этом тоненький голосок Михаила.
На следующий день в наши роты стали прибывать люди — народ довольно разношерстный и разнокалиберный. Молодые парни: колхозники, шоферы, бухгалтеры, учителя, рабочие; русские, украинцы, казахи и грузины; безусые и сорокалетние, степенные и важные, озорные и тихие, безобидные и самолюбивые, веселые и мрачные. Словом, разный народ. И вот всех их нужно было сделать солдатами. И это поручалось нам, еще совсем юным командирам, для которых многие будущие солдаты сгодились бы в отцы.
Наши подразделения размещались в соседних бараках, и это позволяло нам время от времени встречаться, присматриваться друг к другу. Не скрою, по-прежнему у нас было повышенное любопытство к Лобанову. Любопытство это, однако, вскоре сменилось удивлением: перед нами вдруг исчез прежний и явился совсем другой Лобанов. Он мог подолгу держать в положении «смирно» какого-нибудь нерадивого солдата, заставлять несколько раз подряд проползать по-пластунски одно и то же расстояние в полной выкладке, три-четыре километра бежать бегом с катушками кабеля за спиной и рыть окопы в мерзлом грунте. Несмотря на лютую стужу, его солдаты возвращались с учебного поля мокрые, вспотевшие. Даже занятия, которые у других офицеров обычно проходили в казарме, Лобанов проводил в поле, в «снежном классе», как говорил он сам.