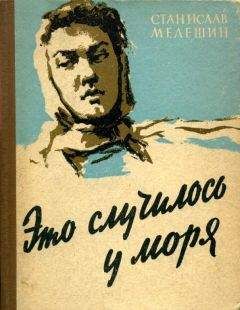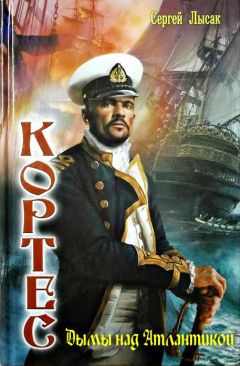Утром он пошел к ее избе-усадьбе взглянуть на хозяйку с отчаянным желанием подружиться с ней. Ворота и калитка были заперты, и он долго выбирал щели в заборе для наблюдения.
Глафира кормила быка, бросая ему под ноги охапки сена. Бык мотал рогами и искал в руках человека хлеб.
Забор зарос крапивой, и Васька, обжигая лицо и руки, нашел щель побольше. Обернувшись неожиданно, Глафира увидела Васькин нос и глаза, потемнела лицом и подошла к забору.
— Что как вор хоронишься?! А ну, давай через забор! — сказала она тепло и насмешливо. Васька перемахнул забор, и Глафира молча подала ему цепь, привязанную к бычьей шее.
— Держи. Сейчас он сено есть будет.
Бык, действительно, съел все сено. Глафира одобрительно покивала своим красивым строгим лицом и вынесла Ваське ковш браги. Подавая ей опорожненный залпом ковш, он вдруг обнял ее просто и нежно, а она, ударив его по рукам, сообщила:
— Что же, прав ты, Василий. Ночью приснился. Только не рыжий.
Он лишь успел подумать: «Погоди, приснюсь наяву!», и от радости, заломив ей руки за спину, подхватил на грудь и закружил.
Глафира сначала кричала: «Брось! Пусти!», но когда Васька стал целовать ее упругие, пахнущие яблоком, холодные щеки, присмирела и, отдышавшись у него на руках, приказала спокойно:
— Поставь на землю.
— Глафирушка, запала ты мне в душу. Теперь я не отстану, всем прокричу, что ты моя невеста!
Васька стоял перед ней, высокий и хороший, раскрасневшийся, с горящими синими глазами, откидывая рукой рыжие кудри, а Глафира задумчиво смотрела на него, и он понял, что она поверила — не отстанет, и это ей было приятно.
— Увидим… — вздохнула она и неловко развела руками: — Что-то я тебя пожалела…
…Ночью он, подкравшись, долго смотрел в открытое окно, как она спит: на боку, чуть поджав колени и положив руку на высокое бедро, укрывшись простыней. Васька хотел залезть в окно, однако сробел и постучал по стеклу. Собаки были закрыты в конуры. Глафира, проснувшись, отперла калитку и, еще сонная, горячая, в ночной длинной рубашке, упала ему на руки, прильнула губами к его губам, вздохнула:
— И опять ты мне приснился! Будто… свадьба!
Васька не дышал, чувствуя под ночной теплой рубахой тело Глафиры. Падали на голову и плечи осыпающиеся лепестки сирени. Вялая и полусонная Глафира водила губами по его щекам и глазам, дыша в лицо. Ваську очень тронули ее доверчивость и открытая нежность.
Он подумал покровительственно: «Все еще сон видит! Уже… как после свадьбы», и понес Глафиру на руках к постели.
…Было много бессонных ночей и много разговоров о том, как они будут жить и что делать. Все стало как во сне, легко и просто. Он днями пропадал у нее и работал во дворе, поняв, что нужна хозяйке крепкая мужская рука в доме, что одна она не сможет вести огромное хозяйство и ей нужен работник…
А ночью, засыпая от ее жадных ласк, забывал обо всем, думая, что так и должно быть в их жизни.
Решили свадьбу справить осенью. Васька же на сезон наймется в плотогоны, заработает денег… В эту ночь Васька задумчиво объяснял ей, что из гордости не может без своих денег делать свадьбу. На подарки и вино денег уйма нужна!
Глафира кивала, одобряя:
— Иди. Работай. Хорошо.
— Невеста, невеста… Вот и дожил! — шептал Васька. — Будешь ждать? Сезон ведь… три месяца!
Глафира молчала, а он от радости был на седьмом небе, что «дожил до невесты», и хвастливо отвечал за нее:
— Будешь. Невесты… ждать должны!
И ходил с ней по улицам и целовал при всех, а Глафира не упрекала и не чувствовала стыда — теперь все должны знать, что она невеста!
Васька съездил в леспромхоз, на запань, где валили лес и шили плоты, нанялся вместе с Жвакиным — старым лоцманом, уговорив старика. Жвакин жил тоже в Зарубине и ходил по дворам: плотничал, поставлял свежую рыбу, лечил скот, снабжал охотников дробью, чинил и паял… В пару им дали обрусевшего манси[3] Саминдалова и громадного Григорьева с Украины, который сидел в тюрьме и, освободившись, остался здесь в тайге.
Прощаясь, Глафира сказала Ваське:
— Поженимся — станешь на ноги. Будешь хозяином.
Об этом мечтал он давно. Что ж, неплохо! Только жаль одного — свободы и привычки к прежнему: придется бросить бродяжничество, жить на одном месте… А уж очень ему нравилось бывать всюду, бродить одному, на свободе, работать и хорошеть душой, — он всегда и всюду все умел и всем был нужен в трудном деле. Чувствовал себя хозяином… Хозяином тайги! Но с этим, как ни больно, придется проститься…
Доведет лес до Зарайского лесозавода и… свадьба! Это его последнее бродяжничество.
Вот и сейчас он проплывает километры воды, берегов, черемухи — последний раз! Заработает и будет жить с Глафирой, как все люди живут! Все очень просто! И все, кажется, создано для счастья: и этот черемуховый май, и молодость, и любовь, и достаток, и впереди — долгое время до самой старости, и эти плотовщики-напарники — три чужие жизни, ему еще не известные…
У головного плота подался вперед, приложив ладонь ребром ко лбу, ворчливый старик Жвакин. На последнем плоту с веслом стоит добрый и тихий Саминдалов и задумчиво смотрит в воду, напевая, — наверно, тоскует о ком-то… Напротив Васьки, тяжело навалившись грудью на рулевое бревно — гребь, покачивается взад и вперед, будто повиснув, громадный Григорьев — загадочный молчаливый человек. Голова болит, наверно, с похмелья…
Плыть еще долго и скучно. Жара палит нещадно, бревна горячи, руки стали чугунными, и воде не видно конца, и черемуха уже надоела, и Васька не знает, чем развлечься, чтобы не думать о Глафире.
Над Жвакиным подшутить, что ли?..
У песчаной отмели, прыгая по каменным плитам, побежали вровень с плотами два маленьких босоногих человечка. Они заходили в воду, махали руками — просили остановиться. Жвакин погрозил плотогонщикам кулаком и, чуть не выпустив из рук переднее весло, стал еще громче командовать. По реке перекатывался его надтреснутый старческий голос, ухая в таежных просторах громким эхом:
— Так держа-а-ать! Греби влево! Греби вправо-о!
И уже отчаянным, сердитым выкриком видя, что плотогоны выпустили из рук гребь и с любопытством смотрели на отставших парнишку и девчонку, с натугой приказал:
— На-ва-ли-ись!
Ругаясь матом, пригибая голову с торчащей белой бородкой, нервно шевеля обвисшими прокуренными усами, подошел, выпрямив свою жердеобразную старческую фигуру.
— Ну, что они там?.. Что? Кому кричу?
Жвакин упер руки в бока и покачнулся. Неуправляемые плоты пристали к берегу, стукнувшись, шурша днищем о песок, качнулись, и солнце упало вниз, будто окунулось в воде, а потом снова повисло в середине неба.
— Э-э-эй! — заорал Васька парнишке и девчонке и, увязая сапогами в мокром песке, замахал рукой, подзывая их. Те прибавили шагу, а потом, заметив, что плоты остановились, побежали бегом.
— Ну, што орешь? — остановил Ваську Жвакин. — Все равно не возьму. Парнишку куда еще ни шло, а девчонок на плоту не потерплю.
Васька рассмеялся.
— Ты, Карпыч, желчный родился! Вместо сердца у тебя — отруби. Девка варить будет. Котел есть, а варить никто не умеет. Сухое да каша надоели уже! А парня подручным поставим!
— Дак ведь никто не знает, кто они такие, может, жулики…
— Сказал! А если люди в беду попали! По таежному закону помочь надо.
Григорьев, сняв сапоги, сел на краю плота, опустив ноги в воду, и пил ее, черпая поблескивающей серебряной ложкой. Саминдалов, запрокинув голову, вглядывался в небо, в котором кружил самолет лесничества.
— Сейчас спросим! Жулики они али кто… — нахмурился Жвакин.
«Жулики» подошли и остановились.
Девчонка — тонкая, с большими грудями, курносая, в ситцевом белом платье. Нога у щиколотки перевязана бинтом. Опустив руки на подол, держит узелок. Глаза серые — настороже. Парнишка — коренастый, с чемоданчиком в одной руке, другой рукой придерживает на палке, перекинутой через плечо, две пары обуви: босоножки и ботинки. Скуластый и белоголовый, в черной вельветовой куртке с замочком, в штанах, закатанных выше колен, он подался вперед и мигая зелеными, чуть насмешливыми глазами, выговорил:
— Здравствуйте, — и закрыл плечом свою подружку.
— Н-ну! — Жвакин мотнул головой и зачем-то снял картуз. — Кто такие? Откуда? К чему сигналы подавали?
Парнишка, стесняясь, начал:
— Я?.. Муж ее. Николаем звать. Она жена — Антонина. Вот… просьба — возьмите нас с собой. Нам только в Зарайск доехать…
Жвакин приготовился экзаменовать, сложив руки на груди:
— А что делать там будешь?
Николай бойко ответил:
— Жить. На работу поступим. Мы к геологам хотели, но до них далеко, да и Тонечка ногу поранила — не дойдет!
— Жена, на работу… — передразнил Жвакин. — Мне лишний груз на плотах не нужен.