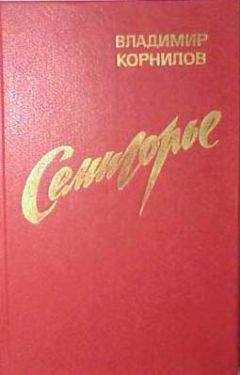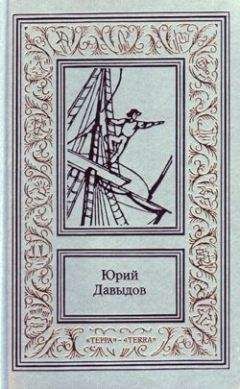Но едва он оказался на берегу Нёмды, услышал стук топоров, голоса, шелест пил, — на стройке работали каждый день дотемна, — вернулось в его жизнь «вчера». Алёшка почувствовал, что не сможет спокойно сидеть за удочками, радоваться обычным своим радостям, пока не объяснится с Василием. Он вернулся, занёс удочки в сарайку, пошёл на конюшню.
Василий сидел на скамье, курил. Двор с плешинами выбитой травы был выметен, телеги расставлены в ряд, из раскрытых настежь ворот несло прохладой, острым крепким запахом лошадей и навоза. От сильных рук Василия, от его тела под рубахой без пояса, с раскрытым воротом, исходил жар. Косички жёлтых волос на висках и шее были мокры и темнели. Василий молча остывал, как перегретый мотор.
Алёшка решительно и хмуро сел рядом на скамью, подошвами ботинок долго приглаживал землю, наконец спросил:
— Василий Иванович, почему вы меня не любите?..
— А за что тебя любить? — Василий разглядывал тлеющий конец самокрутки, зажатой в широких пальцах, как будто обдумывал, продолжать разговор или довольно сказанного. — Воза не вывезешь, сам на возу едешь. Жеребёнок, тот, ладно, не зря прыгает — конь будет. Из тебя не знаю, что будет… — Он докурил, окурыш бросил в бочку с водой, поглядел, угас ли окурыш. — За отцом живёшь, парень. Барчук, одним словом!.. Ну что, лошадь тебе подавать?..
Он встал, пошёл в конюшню. Тяжёлые солдатские ботинки Василия отчётливо и неторопливо ступали по чистой земле.
Алёшка сидел, закрыв лицо руками, но слышал каждый шаг Василия. И каждый его шаг отдавался в гудящей голове болью, как будто голову трясли.
Алёшка не помнил, как добрёл до бугра на вырубке и опустился к подножью своей сосны. Сидел, тупо смотрел на бурую от опавшей хвои землю, морща лоб, слушал, как в малиннике маленькая птица чекан как будто чеканила по камню: «Чок-чек… Чек-чук…» «Барчук…» — слышал Алёшка и, отирая мокрые щёки, думал: «Всё. Конец. Теперь всему конец».
Из дневника Алексея Полянина, год 1938…
Я помню, почему-то до сих пор помню одну страшную для меня ночь. Было это на Урале. Мы жили в леспромхозе, и отец вёз меня на лошади из больницы домой. Случилась метель. Снег лепил. Всё стало бело: дорога, лес, небо. Лошадь с трудом одолевала несущуюся на нас снежную реку.
Отец закутал меня в тулуп. Он стоял на коленях, спиной к лошади, и прижимал меня вместе с тулупом к себе, не давал ветру распахивать полы. Вожжи он привязал к саням, лошадь понукал криком. Я сделал в тулупе дырочку, и когда сани дёргались и отец наклонялся, я видел в сумраке его мокрое лицо и залепленные снегом очки.
В тулупе, под отцовскими руками, было тепло и весело, как дома, в согретой постели, и было даже любопытно подглядывать шипящую, как пар, метель.
Где-то среди поля лошадь встала. Отец вывалился из саней, побежал что-то подправлять. Я встал на ноги и повертел головой, высвобождаясь из намокшей овчины. И тут ветер вдруг как будто разорвал на мне тулуп. Метель набросилась, выла, свистела, стегала лицо и грудь заледенелыми жгучими кнутами. Отца я не видел за белой спиной лошади. И подумал, что отец не вернётся из метели.
Я испугался одиночества и брошенности и, не успев даже вытереть слёзы, дико закричал:
«Па-па!..»
Я успокоился и затих, лишь когда отец снова впрыгнул в сани, закутал меня и прижал к себе. Тогда, наверное, тогда, я понял, как невозможно без отца… Я до сих пор помню Урал, ту страшную снеговую ночь.
Ну, как мне быть без отца?! Зачем Василий хочет вытолкнуть меня в метель?..
2
Юрочка разыскал Алёшку на берегу Волги. Алёшка сидел в тальниках на песке, уткнув подбородок в колени. Юрочка с ходу подвалил к Алёшке, его глаза сияли.
— Здорово, человек! Ну как, жив? С коня не слетел? Шею не сломал?! — Он пристроился рядом, отгородив Алёшку от приятного, ещё тёплого осеннего солнца, удобно вытянул ноги. — А у меня удача, — сообщил он. — Ниночку уговорил! Расписал ей про лошадку, как мы с тобой по лесу гарцевали, она и ручки кверху! Глазки заблестели, губки заулыбались. Видел бы ты Ниночку, когда она улыбается! Только знай, — лицо Юрочки стало угрожающим. — Ни единой роже чтоб! Ниночка с придурью. Волков так не боится, как славы… Да ты что, топиться пришёл, что ли?!
— Так, думы всякие, — нехотя отозвался Алёшка.
— Думы!.. У него думы, а у меня что — хвост от репы? — Юрочка лёг на спину, закинув руку под голову, лежал, сердито покусывая тальниковый лист. — Ладно, бес с тобой, — сказал он, поворачиваясь на живот. — Думай, если голова большая… Давай договоримся, где ты нас с Ниночкой встретишь? Помни, без чужих глаз!.. Ну, где? В десять мы на переправе будем…
Алёшка, не отрывая подбородок от колен, тоскливыми глазами смотрел на приподнятую над песками гладь Волги. «Вот дунет сейчас ветер, — отрешённо думал он, — и покоя на Волге как не бывало. Вот скажу я сейчас Юрке, что я надумал, и наша дружба, как лодка — вверх дном. Но я могу и не говорить?! Василий обидел меня, сказал жестокие слова. Но в моей жизни он ещё ничего не переменил. Он сколько угодно может меня не любить, может как угодно обо мне думать, но лошадь он всё равно выведет, если завтра я приду на конюшню.
Он выведет мне лошадь, потому что у меня есть отец. Но я не хочу жить в чужой одежде, не хочу сидеть в тёплом тулупе за спиной отца! И об этом я сейчас скажу Юрочке. Скажу, и раздену себя, и стану как голый король из сказки! И сразу всё переменится, Юрочка первый от меня уйдёт. Он просто потеряет ко мне интерес, потому что без отца я — ничего. Для всех! Для лесника Красношеина, для шофёра Гриши, для всего посёлка! И в классе будут смотреть на меня по-другому, потому что Юрочка всем расскажет, что я — голый король! Он расскажет…»
— Да что ты молчишь?! — Ко бликов в сердцах толкнул Алёшку плечом.
— Юрка!.. Я должен тебе сказать… Юрка, ты знаешь… — Алёшка сидел бледный, слова не шли на язык. Они были слишком тяжелы, чтоб их произнести. — В общем, я не могу достать лошадь… — глухо сказал Алёшка.
Юрочка на какое-то время замер, потом рывком сел.
— Почему? — спросил он быстро.
— Всё. Отъездился… — с трудом выговорил Алёшка.
Глаза Юрочки наполнил страх. Огромные зрачки смотрели на Алёшку, как наставленные ружейные дула.
— Отца забрали?! — выдохнул Юрочка.
— Куда забрали?.. — Алёшка не понимал, о чём говорит Юрочка. Наконец понял, сказал устало: — Глупости! Отец работает, как работал. Понимаешь, Юрка, я понял, что не имею права ни на лошадь, ни на мотоцикл. Мне всё дают из-за отца. Отцу положено, я пользуюсь. Я не хочу так. Надо как-то, ну зарабатывать, что ли, радость…
Юрочкины губы, скорбно сжатые, растянулись в улыбке, глаза засияли.
— Значит, у тебя всё по-старому?.. А я чёрт-те что подумал. Ты уж не пугай людей своей совестью!..
— Нет, Юрка. Для меня это серьёзно.
— Ну и человек!.. Неужели ты не понимаешь, что отказываться от того, что можно, — это, извини, быть хуже дурака… Лопуховский разумный эгоизм, хочешь знать, выше всяких там самоограничений. Твоё благородство — не благородство! Тебе плевать, что другу ты свинью подкладываешь. Как же, ты доволен своим спокойненьким «я»! Вот он, твой эгоизм! Только не разумный!
— Рахметов готовил себя к революции и спал на гвоздях. Наверное, тоже для своего удовольствия…
— Ты, чудик, хоть отличай землю от неба! Рахметов — литература. Идея!.. А мы говорим про жизнь. Вот про то, на чём сидим… Мы с Эдькой, сыном предрика, на рыбалку на машине ездим. Раз предрику положена машина, он не будет ходить пешком, чтоб показать своё благородство. Сам ездит и меня и Эдьку возит!.. А ты как чуха деревенская, хоть и в столице жил. Теперь даже девочки о спасении души не думают. О приличиях, правда, думают. Да и то не из-за совести — так положено… Ну, уразумел?
— Уразумел.
— Где нас завтра встречать будешь?
— На переправе.
Юрочка поморщился.
— Не то, людей там!.. А мы на тарантасе, как барчуки!..
Алёшка до боли прикусил губу, как только мог спокойно сказал:
— Зачем на тарантасе? Пешком.
— А лошадь?
— Лошади не будет, Юрка…
Тонкое лицо Кобликова вспыхнуло и погасло, стало серым, как пепел. Алёшка видел в глазах Юрочки отчаянье, в сжатых губах — злость.
Юрочка с трудом разомкнул губы.
— Но ты понимаешь, что я договорился с Ниночкой?.. Можешь ты на один день забыть про свою идиотскую совесть?.. Я же сказал ей!.. Ну?! Мне завтра нужна лошадь. Только завтра!..
— Нет, Юрка. Если хочешь, я сам извинюсь перед твоей Ниночкой. Но лошадь больше не возьму.
Юрочка как будто застыл. Потом медленно высыпал из горсти песок, отряхнул руки, сказал как будто даже задумчиво:
— Чуха интеллигентная, вот ты кто! В святые метишь! Не попадёшь. Нив святые, ни в герои. Пуп у тебя не тот, надорвёшь. Чуха! Тьфу!..
Юрочка вскочил.