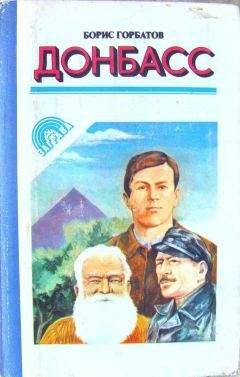И старуха с горючей ненавистью смотрела на Виктора.
Ворожцов вызвал последнего из списка:
— Свиридов! — объявил он. — Известен вам такой человек?
— Знаем, знаем его! — раздались голоса. — Рвач!
— На сцену его!
— Да зачем этого на сцену? — с сомнением возразил чей-то хриплый, простуженный голос. — Этот все одно не застесняется. Стыда в нем нет.
— Все равно на сцену, на сцену!
И Виктор с ужасом увидел, что к нему на сцену идет Свиридов, тот самый Свиридов, который так обидно разыграл его и Андрея в лаве. Он был все в той же круглой потертой барашковой шапке, в сером воротнике, в ватных штанах, на его горле болтался пестрый мохнатый шарф, на ногах были валенки с калошами, словно Свиридову было очень холодно на этой земле и он всего себя укутал войлоком и ватой. Но на сцену он шел действительно без всякого смущения, даже как-то весело, развязно, на ходу подмигивая знакомым, а взойдя на помост, приятельски подмигнул Виктору и даже игривно толкнул его локтем в бок. И это было последним и самым страшным унижением Виктора в этот вечер. Итак, вот до чего он докатился: он был в одной сборной команде со Свиридовым, под одним флагом…
Ему и восемнадцати лет не было. В сущности он был еще очень желторотый молодой человек. То, что случилось с ним на шахте, было всего-навсего житейским испытанием, не больше, его ошибки были первыми ошибками юноши, критика на собрании — первой суровой критикой в его жизни. Просто жизнь оказалась сложнее, грубее и строже, чем об этом мечталось на розовом песке у Псла. И главное — требовательней. Она все могла дать молодому человеку в награду за его труд, а даром ничего не давала.
Но Виктору, со свойственной ему пылкостью и беспорядочностью воображения, все теперь представлялось в густо-черном свете, как раньше в светло-розовом, он все преувеличивал и считал себя глубоко и непоправимо несчастным, чуть не конченным человеком в восемнадцать лет.
Ему казалось, что на шахте все сейчас только и думают, что о его позоре, что теперь всегда и везде будут встречать его смехом и свистом, что он навеки заклеймен печатью «сборной команды», что даже ребята, и те уже брезгливо отвернулись от него, не хотят водить с ним компанию. Он забыл, что сам же первый убежал от них после собрания и нарочно пришел в общежитие, когда все уже спали. Только Андрей и Светличный тревожно ждали его. Но и от них он торопливо отделался пустыми словами, юркнул в постель.
А уснуть не мог. Он, видно, простудился в этот вечер, когда без цели и смысла бродил под дождем по поселку. Утром он не смог пойти на октябрьскую демонстрацию.
Он лежал один в пустынном общежитии и думал о своей судьбе.
Сквозь стекла струился тощий осенний свет. Косо падал дождь над шахтой. За окном виднелся копер, звезда над ним не горела. Только тонкая ленточка бледно-желтого дыма развевалась над кочегаркой, как знамя.
Раньше Виктор всегда нетерпеливо ждал октябрьских дней. Заранее сговаривался с товарищами: всем выйти в юнгштурмовках. Это придавало мальчикам воинский вид. Туго затягивали они ремни и портупеи. Девчонок беспощадно гнали в хвост колонны. Мальчики сурово смыкали ряды. Тревожно бил барабан. «Ма-арш!» — звонким, срывающимся, ликующим голосом кричал секретарь ячейки и вел ребят на площадь, как на баррикаду.
Их ячейка считалась самой голосистой в городе. Комсомолец-учитель, недавно приехавший из Москвы, научил ребят песням, никому в Чибиряках не известным. Они пели «Бандьера росса» по-итальянски и «Красный Веддинг» по-немецки и гордились, что знают эти песни. Все детство и юность Виктора прошли под знаком песен борьбы, подполья и баррикад. Эти песни учили его жить, чувствовать, думать. И он знал уже, что вся-то наша жизнь есть борьба, и чуял, как веют над ним вихри враждебные, и готов был стоять насмерть под натиском пьяных наемных солдат и понимал, что иного нет у нас пути, в руках у нас — винтовка; а остановка, отдых, покой — только в Мировой Коммуне.
В этих песнях для Виктора был образно сформулирован весь кодекс чести коммунара; и доведись Виктору попасть под вражьи пули — он уж знал бы, как держаться: стоял бы, бровью не дрогнув, и умер бы с песней на устах.
Но среди всех песен, что легким горлом пели он и его товарищи на демонстрациях, и на собраниях в ожидании председательского звонка, и по вечерам в клубе, и ночью на тихих улицах Чибиряк, — ни одной песни не было о труде, о шахте, о пятилетке. Тогда еще не были сложены эти песни, а может быть, Виктор их просто не знал. И не было такой песни, что научила бы его тому, что сейчас делать.
Нет, он не мог пойти на демонстрацию рядом со Светличным, Очеретиным, Митей Закорко; нельзя ему идти, стыдно; и петь ему теперь нельзя; и на шахту он завтра не выйдет, не посмеет выйти…
Но и лежать он больше не может. Он встал, оделся, подошел к окну. Дождь все падал и падал… Он, как коногонский кнут, хлестал рудничную улицу, и та вся съежилась под его ударами и почернела. Была похожа она сейчас на мрачный и узкий штрек старой шахты. Так же низко висела над ней кровля осеннего темного неба; так же хлюпала вода и ползла по стенам грязными потеками; лежала на всем мокрая, липкая угольная пыль; и дождь был черный, и земля — черная; и голые, бурые тополя вдоль улицы казались не деревьями, а стойками органной крепи; и колеи были засыпаны черно-рыжей жужелицей, как подъездные пути; и не было ни ветра, ни запахов трав, ни дыхания степи, а только уголь и дым да едкий запашок серного колчедана с террикона…
«Даже дождь тут пахнет не дождем, а шахтой!» — тоскливо подумал Виктор и пошел к другому окну.
Но и в этом окне была шахта. Над нею нахохлился мокрый, хмурый копер, и на его вершине монотонно-медленно вертелось колесо подъемной машины.
«Никогда я не привыкну тут! — мрачно подумал Виктор. — Только зря пропаду!»
Эх, если б можно было начать жизнь сначала! Сначала и на новом месте. Как бы замечательно работал он на новом месте! Все равно где, только бы далекодалеко отсюда, там, где никто и никогда не узнает о его позоре, не напомнит, не усмехнется. Как бы он замечательно работал там! Он бы начал все сначала, ни одной ошибки бы не повторил, сперва скромно учился бы у мастеров, а потом и сам стал мастером. Только бы позволили ему начать все сначала и на новом месте. Он не знал еще, что жизнь не беговая дорожка стадиона, где после неудачного старта можно вернуться на линию и начать бег сызнова, по пистолетному сигналу. В жизни приходится стартовать именно с того места, где споткнулся или упал, если уж упал.
Он опять прилег на койку. Его знобило. Он натянул одеяло. «А на шахте я не могу больше, как хотите!» Без славы еще можно прожить, — как жить с худой славой?
Пришли ребята с демонстрации — мокрые, счастливые… Пустыня, в которой лежал дотоле Виктор, вдруг заселилась голосами, смехом, жизнью, беготней.
Подошел к койке Андрей, участливо посмотрел на друга.
— Ну как, легче?
— Нет.
У Виктора действительно началась лихорадка. В эту ночь он плохо спал; тревожно метался на горячей постели, рвал с себя одеяло, бредил… Смутно вспоминал он потом чью-то прохладную ладонь на лбу, обрывки видений, отзвуки голосов… Пьяный Шубин в шахтерке из рваной рогожи куда-то звал его, тащил и все подмигивал, как Очеретин. «Я, брат, бог, меня все боятся, со мной не пропадешь!»
— Надо доктора позвать! — вдруг услышал он над собой знакомый голос.
Он очнулся. Было утро. Вокруг койки собралась вся смена: ребята были уже в шахтерках.
— Мы сейчас к тебе доктора позовем! — повторил Светличный, и его голос прозвучал участливо, дружески.
Виктор увидел встревоженное лицо Андрея, испуганное — дяди Онисима; ему стало неловко, досадно, он вдруг рассердился: что они в самом деле! Я же еще не умер!
— Мне… доктора… не надо! — прохрипел он. — Не надо! — и приподнялся на локтях, злой и взъерошенный.
Светличный снова посмотрел на него, на этот раз долгим-долгим взглядом. Но ничего не сказал, молча отошел. Остался один Андрей. Он беспомощно топтался на месте, не зная, чем помочь другу.
— Отчего ж ты не хочешь доктора, Витя, а? — умоляющим голосом спрашивал он. — Мы ж хорошего доктора найдем, не сомневайся!
— Мне… доктор не допоможет…
— Як же не допоможет? Он же доктор, учился этому…
— Отстань! — тихо попросил Виктор, и Андрей смолк.
Растерянно топтался он у койки, переступая с ноги на ногу, — топтуном его еще мать прозвала, — потом побежал куда-то, принес кувшин с водой, поставил на табуретку подле кровати Виктора.
— Может, тебе пить захочется…
Ему вдруг захотелось приласкать товарища, — никого на этой шахте не было для него дороже, — но он не знал, как это делается. Не целоваться же! В их давней и крепкой дружбе нежностей никогда не было. Они стыдились нежностей, они не девочки.