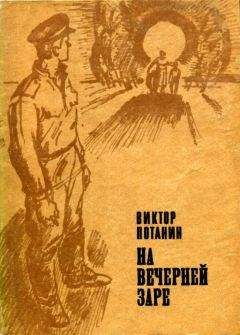— Ты философ, отец.
— Все мы, Афоня, вначале философы, а потом приходит время платить долги.
— Кому?
— Людям, Афоня. Все им, все им. Вот ты врач, а без врачей нам нельзя.
— Куда ты клонишь, отец? — сказал опять с беспокойством и отодвинул чай. Ложечка в чашке звякнула о тонкий чешский фарфор.
— Сколько у тебя, Афоня, было смертей? Ну, от твоей руки? — Последние слова ему дались через силу, и он начал шумно дышать. А лицо опять побледнело, опало, а хохолок пошел вверх. И вот уж он торчит над головой прямым столбиком, словно дразнит кого-то, смеется.
— У тебя странные, отец, представления.
— Но ты же хирург и режешь людей?
— Вот именно что хирург. Ведь если хирург ошибается, то ошибается не один. Иногда подводит даже рентген.
— Коллективная ответственность, да? Ты зарежешь, а все отвечают?
— Ты не утрируй и не делай из меня мясника. Если судно в тумане село на рифы, виноват не один капитан.
— Но в ответе прежде всех капитан, — сказал отец хмурым голосом и еще сильней побледнел.
Он теперь стоял у окна и сердито смотрел в ограду. Хохолок шевелился на голове. За этот хохолок, за пронзительность глаз сослуживцы прозвали его Суворовым, но без всякого зла. Вот и теперь он смотрел исподлобья, внимательно, точно бы решал, куда послать свое храброе войско, как малыми силами выиграть бой. «Суворов и есть!» — подумал весело Афанасий и рассмеялся. Отец поморщился: ему не нравился смех сына.
— Значит, Афоня, ты не помнишь ни одного человека, который бы умер из-за тебя?
— Не понимаю…
— Ну, по твоей недоглядке…
— А-а, теперь понимаю. Такие ошибки бывали. Но у кого их нет? Да и кто мне докажет, что я виноват? Чудак ты, отец! — он стал разминать сигарету, и вся веселость его прошла, как ветром сдуло. И подступила сразу усталость. Как и у отца, у него часто прыгало настроение. То выйдет солнце на чистом небе, то опустятся тучи, то снова разведрит.
— Понимаю, Афоня, ты найдешь оправдание. И родные умершего тебе мстить не будут. Но ты-то? Сам-то? Неужели они не снятся ночами? Неужели не помнишь их лица, голоса?
— Ну-у, отец! Отколол ты. Прямо в тюрьму меня надо. Да на тяжелый замок.
— А ты не смейся. Я хочу во всем разобраться. За этим тебя и позвал… — Отец замолчал и внимательно посмотрел на сына. Но взгляд его был не в лицо, а куда-то дальше. И от этого взгляда Афанасию стало невыносимо. И опять стал ждать от него то ли ссоры, то ли тяжелого признанья, то ли какой-то печальной просьбы. И отец признался:
— Я тебе доверяюсь, сынок. Дело наше касается Федора. Этот человек для меня больше брата. Больше даже отца, хоть мы с ним и погодки. И терять мне его не надо.
— А зачем терять?
Но он словно не услышал вопроса. Только покачал головой и вздохнул.
— Мне тяжело, Афоня, но я должен сознаться. Федор меня вынес из боя. На себе вынес… В первый месяц войны наша часть была в окружении. И меня ранило — осколок в плечо. Мне надо бы застрелиться, чтоб не мучить своих. Но Федя меня не бросил. Так на спине и тащил по оврагам. А потом еще попали в болото. Натерпелся со мной, пока не вышли к своим.
— Отец, я не вижу связи. При чем тут Федя и моя работа?
— Не спеши, родной, не спеши… Потом мы опять воевали вместе, и потом опять все совпало — он на протезе пришел, и я на протезе. Потом жен своих схоронили…
— Ладно, отец, не темни. Что у него, у Федора?
— Но я еще про войну хотел. Это было в конце сорок третьего…
— Потом, потом! Что у Федора?
— Полагаю, что язва. И такая, что не вылечивают. Только режут такую…
— Знаем, знаем мы эти язвы, — устало сказал Афанасий и забарабанил пальцами по колену. На его красивом чистом лице мелькнула досада. Он уже совсем задыхался в этой маленькой комнатке. Да и сам отец — его прямой взгляд, его голос, какой-то непривычный, почти заискивающий, давили незримой угрюмой тяжестью.
— В районной больнице от Федора отказались. Сказали, везите в область, там у нас медицина. А вдруг, сынок, у него уж клешнятый?
— Зачем так, отец? Вы же собрались с ним копать грядки да снег где-то чистить…
— А ты не смейся, Афоня! Через год мне семьдесят стукнет. И половина жизни с Федей была. Так что…
«Так что отцу будет семьдесят. Старость! Седая старость… И жаль его и обидно. И горько за него, за себя. Сойдемся — и как петухи. А ведь надо бы беречь его, охранять от болезней и какие-то хорошие слова находить, и уступать во всем, и жалеть. А у нас — только ссоры да обвинения. А кто виноват? И кто разберет?»
— Ты ж, Афоня, хирург. И говорят — уважают?
— Все верно, верно-о-о! — сказал нараспев Афанасий и улыбнулся. Горечь с сердца стала сползать, и сразу же захотелось ободрить отца и утешить. — Знаешь, вези ко мне Федю. Я за него берусь. Так отделаю, что пятилетку протянет. А пять лет проживет, потом еще пять может. Но надо бы его поглядеть. Одним словом, твой Федор за мной. Берусь за него по блату, — он усмехнулся, пригладил волосы и подмигнул отцу. Но тому не поправилось.
— Блат сюда не привязывай. Наше с Федором дело — солдатское. Это было, сынок, в конце сорок третьего. Мы окопались возле лесочка. И вдруг сразу — танки…
— И вдруг поперли «тигры» и «пантеры», — тихонько передразнил Афанасий и посмотрел на отца долгим взглядом. Ему временами казалось, что на отца уже что-то находит и куда-то несет его и относит, что у него, как у всякого старого, есть теперь свои пунктики и привычки.
Все это понял отец: догадался или услышал своим дальним сердечным слухом. И как только понял, так сразу сбился и замолчал. И когда сын снова посмотрел на него, тот уже кусал губы в сильном волнении, и ресницы его мелко-мелко подрагивали, как будто бы накануне слез. И все-таки удержал себя и начал сначала:
— Это было в конце сорок третьего… — Он откинулся на своей низкой скамеечке и начал поудобней укладывать деревянную ногу. Наверное, приготовил себя к большой, длинной речи. Но сын опять не оставил надежд.
— Не надоело тебе про войну? Нельзя же все время…
— Наверно, нельзя… — согласился отец, и сразу лицо у него стало удивленное, слабое, какое-то извиняющееся лицо. Как будто просил о чем-то, упрашивал. Так и есть.
— Но все-таки я доскажу, Афоня?
— Не надо, отец. Я уж все знаю. Честное слово. Ну что ты? Еще потом приеду — расскажешь. А сейчас извини. Устал я.
— Ладно, Афоня. Устал ты. Такую дорогу ехал, да сколько бензину сжег, не оплатишься. Уж прости, сынок. Не подумал я. И с телеграммой нехорошо.
— Не усложняй, отец.
Но тот ничего не слышал. Щеки у него вытянулись и совсем почернели. И рубцы на них тоже вытянулись и пошли в глубину, и все лицо теперь было в сплошных рытвинах и ухабах, а по этим ухабам двигались бисеринки — все вниз, все вниз, к подбородку. Он плакал открыто, не закрывался, и это было совсем печально. Потом перестал на миг и посмотрел на сына.
— У вас там работает Николай Журавлев?
— Есть такой. Николай Степанович — главный врач областной больницы. Ты что, следишь за ним по печати?
— И по печати, сынок. И народишко наш поговаривает. Очень довольны им, очень довольны. Кого резал Журавлев — все потом на своих ногах. Никого нет покойничков.
— Да, Журавлев — хирург классный. Правда, состарился, — тихо сказал Афанасий и замолчал. Тишина была длинной и какой-то тяжелой. И в ней уже двигалось что-то плохое, живое, и оно уже совсем не соединяло их, а наоборот, разъединяло, и сын мучился этим и искал утешения. Но была только боль.
— Ты знаешь, Афоня… Мы с Журавлевым были на одном фронте.
— Ну и что? — поднял голову Афанасий.
— А то, сынок, что все мы — однополчане. Вот и Федор, значит, однополчанин… Если можешь, то свяжись с Журавлевым. Попроси ради бога за Федю. Так, мол, и так, вас просят однополчане.
— О чем, отец, просят?
— Чтоб сделал Журавлев операцию. Такому я доверяю. И за Федю буду спокоен. Один ведь у меня Федя. — И опять лицо его заходило, задвигалось, а хохолок на голове приподнялся.
— А мне, значит, не доверяешь? — усмехнулся зло Афанасий. Потом он стал чиркать спичкой, чтоб прикурить, но никак не мог зажечь ее. А когда зажег, то уже не мог прикурить. То ли забыл, что хотел, то ли ушел в себя, потерялся.
— Значит, не доверяешь?
— Не в эфтим дело, сынок. Я хочу, чтоб надежно…
— Не в эфтим дело, — передразнил Афанасий и сморщил лицо. В комнате потемнело — за окном давно вечер. И золотые волосы его потемнели.
— Ты не дразнись, сынок, — сказал отец чуть слышно. — А если тяжело тебе к Журавлеву, я сам к нему съезжу. Прямо в ноги паду за Федю. Я не гордый и не спесивый. И фронтовику твой врач не откажет. А еще скажу, что сильно веселый нынче Федор Иванович. А раз веселый, значит, дело — табак. Надо спасать человека.
— Надо, надо… — заворчал Афанасий. — А на мой вопрос не ответил?