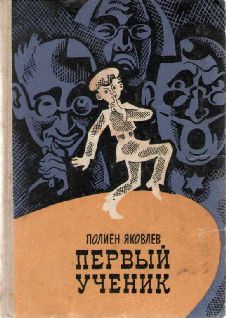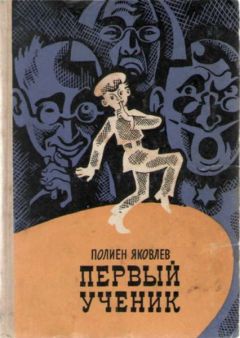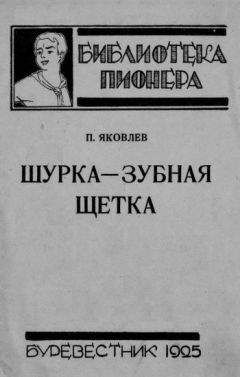та.
Узнав, что все обошлось благополучно, с восторгом сказала:
— Ох, и отчаянная ты!
В другое время Нюра не утерпела бы, похвасталась бы своей храбростью, а сейчас ей было не до того.
■— Спасибо, — только крикнула она и побежала домой.
— А батя ж где? — испуганно спросила она мать.
■— Не знаю... Что теперь будет? Ума не приложу.
— Да батя ж где? — не унималась Нюра.
Вошел отец. Он хотел повидать кое-кого из немногочисленных хуторских друзей, но никого уже не застал. Все поспешно покинули хутор.
— Вот что, — сказал он жене, — видно, и мне уходить надо.
6. Девушка с хутора 3Î
Ты не думай, что навсегда. Не может того быть. Крепко помни, что я тебе говорил.
И стал собираться в дорогу.
Карповна молча провожала его. Ей хоть и тяжело было снова расставаться с мужем, но она была рада его отъезду — это спасало от неминуемой беды их всех.
— Ну, дочка, — Степан шатнул к Нюре, и голос его чуть дрогнул. — Жди, не горюй. Вернусь... Веди себя тихонько, лишнего при людях не болтай. Помни батьку, с атаманскими детьми не водись. Вырастешь, тогда поймешь, за что боролся твой отец. Да уж и не маленькая ты...
— Я и так... Я знаю...
Больше ни отец, ни Нюра не проронили ни слова. А когда он отворил дверь, она быстро прижалась к нему и нежно погладила рукав его старенькой черкески.
Все вышли во двор. Карповна перекрестилась и стала крестить Степана, но тот, поправляя на коне сбрую, не заметил этого и сказал:
— Надейся крепче на советскую власть. — И, еще раз обняв Нюру, вскочил в седло.
Когда он выехал за ворота и скрылся во мгле, мать заплакала и ушла в хату, а Нюра долго еще стояла у плетня.
Напрасно Оля всю ночь ждала отца. Андрей Федорович пришел только утром. Осунувшийся и похудевший, он наскоро поел и, заметив, что Оля не сводит с него глаз, осторожно сказал ей:
— Плохо, девочка, плохо. Белые захватили город. Почти по всей Кубани снова сидят атаманы. Корниловские полки... озверелое офицерье... Ты вот что: может, придется всем нам уйти из станицы... Понимаешь?
— А куда уходить?
Андрей Федорович задумался.
Вбежал пастух Степа.
— Скорей! В ревком зовут!
— Ну, Оля...
Схватил шапку и побежал. Степа на минуту задержался.
— Вот дела! — он развел руками, — вот черти проклятые! Сейчас на улице Мишку Садыло встретил. Морда кирпича просит. Бегу дальше, а у ворот Федька Тарапака. Тоже не хуже Мишки подбоченился. Я как глянул на него, а он... А он уже не боится... Понимаешь — не боится. Вот контры! Прощай пока!
Оля осталась одна. В полдень к ней забежала Даша.
— Ты слыхала?..
— Да...
— Мама плачет. Порежут нас белые?
— Брось! Что ты пугаешь? Наши же их не резали...
— Побегу домой.
Оля снова осталась одна. Сегодня она даже ничего не го^ товила к обеду. Вспомнила об этом, когда уже наступили су--мерки, но тут неожиданно прибежал отец.
— Собирайся! Сейчас подадут тачанку. Захвати что можно в дорогу из одежи, завяжи в узелок... Одеяло возьми... Хлеб, что у нас остался, возьми и... и больше ничего... А я верхом...
... Станицу окутал темный вечер... Леля сидела с матерью. Раздался короткий стук. Мать осторожно подошла к дверям.,. Леля молча ждала в темноте, зябко куталась в шаль. Услышала знакомый голос, облегченно вздохнула, побежала навстречу.
— Ты?
Вошел Мишка.
— Уже скоро! — радостно зашептал он. — Ей-богу, скоро... Красные бегут из станицы. Пусть. Наши теперь покажут им!
А перед рассветом Мишка влез на высокий тополь и стал пристально вглядываться вдаль. В серой мгле утопала за станицей дорога. Она была пуста и безмолвна. Мишка от волнения даже не чувствовал утреннего холода. Он медленно обводил глазами горизонт. Вон далеко-далеко чуть виднелся в степи курган, там, за этим курганом, терялись вдали хутора. В самом крайнем из них живет Нюра. Мишка, вспомнив о ней, ухмыльнулся.
Осматриваясь, он взглянул на здание ревкома. Там еще висел красный флаг... Мишка снова перевел взгляд на большую дорогу и вдруг увидел: клубится пыль. Радостно вздрогнул: еле различимая, двигалась конница...
— Ага! — не крикнул, а, точно ворона, каркнул от радости Мишка и, как ошалелый, ломая ветви, обрывая на себе одежду, камнем спустился вниз, бросился в хату к матери:
— Наши!
— Где? Кто? Говори толком! — допытывалась мать, но Мишка только таращил на нее глаза, кружился по хате и все твердил: «Наши! Наши!».
XXIV
Вот уже два месяца как на Кубани снова хозяйничают белые. Вернулись в станицу и лелин отец, и Иван Макарович, а Костика даже сам генерал Покровский наградил чином есаула.
Поднял голову и дед Карпо. Он опять нацепил себе на грудь царскую медаль и важно расхаживал по хутору.
Была поздняя осень, сады посерели, осыпались, только на старой ветвистой шелковице, одиноко стоявшей у заброшенного колодезя, еще трепетали желтые, как лимон, листья.
Над хутором проплывали большие белые облака. Они часто заслоняли солнце, но сегодня день все же выдался хороший — сухой и теплый.
В такую погоду Нюра охотно пошла бы погулять. И в самом деле; как хорошо в эту пору идти вдоль плетней, по тропинке, усеянной опавшими листьями! Как приятно и тихо они шуршат под ногами! В воздухе вспыхивают и тут же гаснут серебристые паутинки, и где-то далеко-далеко кричат журавли...
Но Нюра уже давно не выходит со своего двора.
— Сиди, не лезь людям в очи, — то и дело напоминает ей мать. — Не слушался меня твой батька, твердила ему — держись за казаков, — так нет же: ушел с красными. А теперь люди добрые на нас пальцем тычут.
— Мама, а Щербина, а Кухаренко, а галин отец Полищук? Они ведь тоже казаки. Не один же батя...