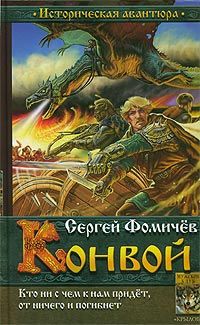— Я про Герасима-грачевника неспроста сказал. Мужики спрашивают: готовиться к севу иль нет? А заодно и про школы пытают, ремонтировать их иль погодить? Просят мужики ответить через газету.
— Ну, Иван Васильевич, эта твоя весточка всех остальных дороже! — блеснул горячо глазами Арсенадзе. — Значит, верит народ в нашу окончательную победу и вперед смотрит?
— Народ считает, что к покосу управимся. Очистимся то есть от колчаковской нечисти, — сказал солидно Крутогон.
— А это самое дорогое! — воскликнул комиссар. — Душу свою народ не потерял! Понимаешь, дорогой? Немедленно ответим через газету. Слышишь, редактор?
— Слышу, — ответил смущенно Афанасьев, катая по столу ладонью карандаш. — А у нас, Давид Леонович, одна неприятность за другой.
— Какая неприятность? Докладывай! — посуровел комиссар.
— Сначала краска кончилась. Но с этим делом выкручиваемся. Федя и днем и ночью над коптилкой железный лист держит и сажу соскребает. На керосине затрем и ничего, печатать можно. Спасибо Семену Семеновичу, научил.
Комиссар посмотрел на Чепцова, сидевшего скромно у печной дверцы. Тот смутился под веселым и добрым взглядом комиссара, схватил кочергу и начал шуровать печь.
Афанасьев покашлял нерешительно в кулак и докончил:
— А теперь новая напасть — бумага кончилась. Не знаем, как и быть.
— Бумага кончилась? — откинулся комиссар, как от удара, и вспылил: — Разбазарили бумагу?
— Срыву у нас много, — откликнулся от печки Чепцов и покосился сердито на пресс. — Техника времен Ивана Федорова, первопечатника! Попробуйте, Давид Леонович, приправьте с первого раза на этой тискалке!
— Приправлю я вам всем! — мрачно ответил Арсенадзе. — Где же взять бумагу? Где взять?
— Возьмем, — просто ответил Чепцов.
— Где? В тайге под кустиком?
— Зачем в тайге? В городе Боровске. Работал я там в типографии городской думы. А в какой типографии нет бумаги?
— Идея богатая, дорогой! — повеселел комиссар. — Сегодня же доложу штабу о вашем предложении, Семен Семенович.
Штаб одобрил налет на Боровск и назначил день. А накануне налета Арсенадзе вызвал к себе Чепцова и сказал:
— Вы тоже, кажется, в поход собирались? Не пойдете!
— Почему? — тихо и трудно спросил наборщик.
— Воюйте верстаткой, это у вас здорово получается. Понимаете, дорогой?
— А я хотел заголовочные шрифты там отобрать, — по-прежнему тихо ответил Чепцов. — Не играют у нас заголовки.
— Мы все шрифты сюда притащим, здесь и отберете. Хорошо?
Чепцов ничего не ответил и вышел из штаба, забыв закрыть за собой дверь.
— Обидели вы его, — прихлопнув дверь, сказал Афанасьев.
— Знаю, — растроганно ответил комиссар. — А как иначе? Не можем мы им рисковать!
Дверь медленно открылась. На пороге стоял Чепцов. Круглый рот его дрожал.
— Может, вы, товарищ комиссар, сомневаетесь по случаю этих бантов? — сказал он от порога. И, не дожидаясь ответа, сорвал черный и зеленый банты, швырнул их об пол и придавил каблуком. — Видите? В голове у меня прояснилось теперь. Все же рабочий я, поимейте это в виду. Прошу разрешения в бою заслужить красный бант!
Темные пристальные глаза комиссара потеплели:
— Хорошо, пойдете в налет. А знаете, с какого конца винтовка стреляет?
— Разберусь! — счастливо крикнул Семен Семенович.
…В город просочились поодиночке и небольшими группами в два — три человека. На типографию, помещавшуюся в здании городской думы, напали ночью. Но оказалось, что здесь же была и казарма колчаковской милиции. Милиционеры защищались отчаянно, зная, что от партизан им пощады не ждать. Казарму пришлось забросать «лимонками». Здание загорелось. Когда пожар перекинулся на типографию, Чепцов, волоча винтовку за ствол, бросился к ее дверям с криком:
— Бумага горит!.. Шрифты спасай!
Пулеметная очередь опрокинула наборщика на пороге. Партизаны вытащили его, тяжело раненного, из-под обстрела. А типография сгорела. Лишь остов печатной машины да сплавившиеся в свинцовые комья шрифты нашли в ней партизаны. Можно было считать, что налет не удался.
Чтобы не связывать отряд при отходе, в налет была взята только одна пароконная фура, под бумагу. Завхоз, обшаривший уцелевший от пожара казарменный склад, нагрузил ее доверху английскими солдатскими ботинками на подошве в палец толщиной. Была уже дана команда к отходу, когда прибежал Федя Коровин и показал комиссару сверток обоев.
— У здешнего магазинщика аннулировал! У него целая гора этого добра.
Арсенадзе развернул свиток, полюбовался рисунком, перевернул наизнанку и сказал:
— Подойдет! На одной стороне будем печатать.
Полюбовался обоями и завхоз и сразу понял суть дела:
— Веселая у нас газетка будет! Придется половину фуры освободить.
— Освобождай всю! — приказал Арсенадзе.
— Товарищ комиссар, да вы что? — взмолился завхоз, заломив отчаянно почерневший от костров тропический шлем. — Весна на носу, а у меня ребята сплошь в валенках ходят!
— Головой думаешь, дорогой, или своей мочальной «здравствуй-прощай»? — посмотрел пронзительно комиссар на Вакулина. — Сам говоришь — весна! Сеять надо! Красная Армия придет, чем кормить будем? Понятно или повторить?
— Не надо повторять. С первого раза понятно, — поник завхоз и крикнул партизанам: — Разгружайте фуру, ребята! А ботинки на себя вешайте. Все равно ни пары не брошу!
Уходили по вымершим улицам города с песнями. Шедшие в голове «пикари», вооруженные пиками, перекованными из кос и вил, горласто орали:
Пики нас не подвели,
Колчака с ума свели!..
Когда песня «пикарей» долетала до Чепцова, лежавшего на фуре, наборщик дергался и приподнимался, снова порываясь бежать спасать горящую бумагу и шрифты. Дыхание его стало прерывистым и знойным, пряди давно не стриженных волос, влажные от предсмертной испарины, прилипли ко лбу и щекам. Папаша Крутогон, державший голову наборщика на коленях, с испугом смотрел на его лицо, ставшее маленьким, детским, и умолял раненого:
— Семен Семенович, трофей ты мой бесценный, ты натужься и не помирай. Слышишь? Не помирай, говорю…
Очередной номер «Партизанской правды» набирал уже Федя, то и дело чертыхаясь шепотом, когда на верстатку лезла совсем не та, какая нужна была, литера. Ночью, когда тискали на обоях весенний, посевной выпуск газеты, умер Чепцов. Партизаны вереницей шли в лазарет проститься с наборщиком. На груди Семена Семеновича был приколот большой красный бант, а нелепый рыбий рот его круглился в последней улыбке, словно он радовался, что наконец-то выбрал настоящий бант, цвета пролитой в боях рабочей крови.
А в открытую дверь лазарета доносилась из тайги звонкая, победная капель весны.
Из уральской партизанской прокламации.
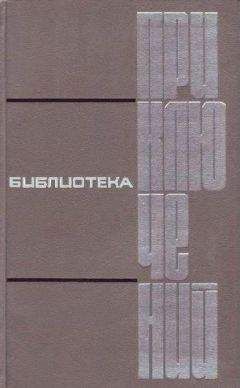
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)