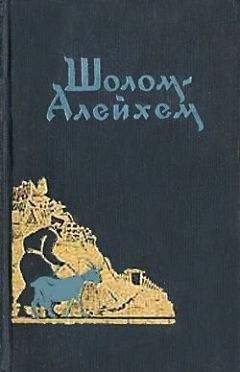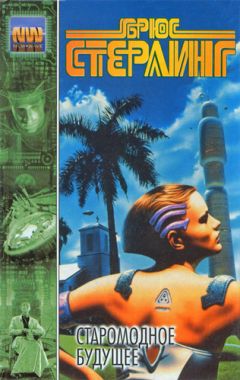Девушка рассказала о себе, о том, как росла без отца и матери, как закончила в детском доме семь классов, а потом училась в ремесленном училище на слесаря.
— Это уж меня Павел Устинович попросил нормировщицей поработать. Ты, говорит, девка боевая, грамотная, а учет в цехе сложный...
Много хорошего узнал в этот вечер Алексей об Устиныче.
Домой вернулся поздно. Уткнувшись в подушку, он долго ворочался в постели; ему казалось, что губы его полыхают огнем. Замирало сердце, когда вспоминал, как Люба поднялась на цыпочки и крепко его обняла... Первый в жизни поцелуй.
В цехе что-то произошло. Это Алексей заметил сразу, как только вошел на следующий день в пролет. Фрезеровщик Павлов низко наклонился над станком. Седой ершик волос выбился из-под кепки. Глаза старого рабочего, обычно добрые, улыбчивые, сегодня тоскливо смотрели на деталь. Может быть, заболел?
Лекальщик дядя Вася и зуборезчик Гаврилов имели понурый вид. Даже Чернобровкин не шумел, как обычно, не приставал ни к кому, он тоже был чем-то озабочен.
— Алеша!
Токарь обернулся. Перед ним стояла Люба. Глаза заплаканные, веки красные.
— Алеша, помер Павел Устиныч, — и дав волю слезам, уткнулась в плечо друга.
Алексей растерялся. Он погладил по плечу девушку, не зная, что нужно сказать, чтобы успокоить ее.
— От, чего же он помер?
— От сердца, — проговорила Люба.
«Так вот почему держался Устиныч за грудь, когда я нагрубил ему». От этой мысли Алексею стало не по себе: что если он в какой-то мере виноват в смерти старого мастера?
Из цеха Алексей ушел, ни с кем не простившись. Даже к Любе в конторку не заглянул. Смерть Устиныча вихрем ворвалась в его беззаботную жизнь, и, может быть, только сегодня по-настоящему он начал осознавать свою вину перед ним.
Хоронили старого мастера всем заводом на городском кладбище. За гробом шли тысячи людей.
Алексей вытирал кулаком непрошенную слезу и крепко держал за руку Любу, которая плакала навзрыд.
Устиныча положили под могучим кленом, широко раскинувшим свои ветви. Над землей вырос покатый холмик с краснозвездным обелиском.
Алексей стоял в толпе и думал об Устиныче и себе. Сердце его терзали горькие, тяжелые мысли.
— Пойдем! — тронула его за руку Люба.
Народ расходился. Две женщины в черных платках поддерживали жену Устиныча — Анастасию Ивановну. Плакала она беззвучно, и только заметно было, как судороги безысходного горя сотрясали ее тело.
Алексей не был на квартире Устиныча, хотя Люба приглашала его не раз. И после похорон он наотрез отказался идти туда. Там все напоминает об Устиныче, старом добром мастере, которого он обидел. Сегодня Алексею просто нужно было остаться одному и обдумать случившееся.
...К Любе он пришел через неделю. Девушка мыла пол. Анастасия Ивановна, осунувшаяся, сгорбленная, стряпала в кухне.
— Добрый день, Анастасия Ивановна, — войдя в кухню, поздоровался он. — Я в гости к вам. Можно?
— Заходи, заходи, Алешенька. — Старушка обтерла передником руки, подвинула табуретку. — Присаживайся.
Алексей сел на табурет. Анастасия Ивановна раскрыла шкафчик, достала чашки, блюдца, варенье.
— Подвигайся, сыночек, к столу поближе, чаю попьем, — хлопотала она. — Сейчас Любашу позову...
За столом сидели втроем. Анастасия Ивановна потчевала гостя пирогами, вареньем.
— Любил мой Устиныч вишневое варенье, — сказала она тихо.
Алексей сидел на стуле, словно на раскаленном железе. Наконец, он рассказал Анастасии Ивановне о том, что случилось в цехе.
— И-и! Полно тебе, Алешенька! — замахала рукой старушка. — От ругани не помирают. Сердце у него, родимого, было плохое. Давно ему врачи говорили: на пенсию пора. Семьдесят пять годков стукнуло. А он все не шел. Жить, говорил, хочу, а жизнь моя на заводе. Неугомонный был. А тебя-то он крепко любил. Бывало, со смены придет и все похваляется: «Хороший парнишка на моем станке работает, дотошный, да такой понятливый».
— На его станке?! — Алексей поперхнулся горячим чаем. — А я и не знал!
— Неужто не рассказывал? — удивилась старушка и всплеснула руками. — Всегда вот он у меня такой тихоня был. За станком-то этим он пятнадцать годков простоял...
Анастасия Ивановна пошла к старенькому пузатому комоду, открыла ящик, достала оттуда кипу бумаг, обернутую белой тряпицей, положила сверток на стол.
— Документы наши, семейные, — с грустью сказала она. — Погляди, Алешенька.
Алексей рассматривал бумаги, и к сердцу его подкатывала теплая волна гордости за человека, с которым ему пришлось так близко встречаться и вместе работать. Одних благодарностей и похвальных грамот он насчитал больше тридцати. И даже такие были, которые Орджоникидзе подписаны.
Фотокарточки. На одной из них Павел Устиныч стоит рядом с Орджоникидзе и улыбается. На другой — рядом с Калининым и Орджоникидзе.
— В Москве это было. На слете стахановцев, — объясняла Анастасия Ивановна. — А вот и ордена его, — она смахнула сухой ладошкой слезу и ласково глянула на Алексея. На красной подушечке поблескивали золотом орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. — Не любил мой красоваться-то, — говорила старушка. — Только и носил ордена, когда большие праздники были. И то я уж сама заставляла.
Алексей встал, подошел к окну. За окном виднелись светлые заводские корпуса. Дымили высокие трубы и в комнату доносился дробный перестук тяжелых пневматических молотов... Завод жил своей жизнью, трудной, напряженной и беспокойной.
Данил Матвеевич неторопливо поднялся на площадку четвертого этажа. Дверь его квартиры внезапно распахнулась. «Что бы это значило?» — подумал Данил Матвеевич, вглядываясь в полумрак длинного коридора. Он неуверенно переступил порог и вдруг почувствовал тепло чьих-то рук на шее; а на щеке два горячих поцелуя.
— Папочка, родной, поздравь меня! — услышал Данил Матвеевич голос дочери.
— Шурка! Эка бестия — на шею повесилась. Сдала, что ли?
— Все сдала! В субботу будет выпускной вечер. Пал Палыч сегодня поздравил нас. «Перед вами, — говорит, — товарищи, открывается большая дорога в жизнь».
«Дорога в жизнь», — мысленно повторил Данил Матвеевич, испытующе разглядывая Шуру. В полутьме коридора она казалась совсем маленькой, худенькой.
— Ну, добро, Шурка, поздравляю, — в голосе отца Шура уловила знакомую ноту затаенной досады. — И куда ты с этим аттестатом теперь?
— В институт, пап... Не доволен, вижу. Думаешь, срежусь, не пройду по конкурсу? Пройду! Целое лето буду готовиться.
— Добро, Шурка, ладно! А волноваться тебе вредно, слабенькая ты. Погулять собралась?
— Какой ты черствый, Даня, — заговорила Вера Павловна, едва за дочерью захлопнулась дверь, — у ребенка такая радость, праздник жизни, а ты...
— А чему радоваться?
— Дочь окончила школу, получила аттестат зрелости...
— Куда она с этой зрелостью пойдет? В институт? Не та голова. Работать? Не научили в школе. Может, в секретарши? Лицом не вышла. Разве вот замуж, коль добрый человек найдется. Ума не приложу, что дальше с ней делать.
— Это с твоими-то связями? Да поговорил бы с Максимом Петровичем, он ведь в ладах с директором института.
— Избавь, Вера: во-первых, нечестно, во-вторых... пусть Шурка сама своими руками, своим умом в жизнь влазит.
Пророчество Данила Матвеевича было не пустым — осенью Шура не прошла по конкурсу.
Лицом вниз она лежала на кушетке, худенькие плечи нервно вздрагивали. Не заметила, как вошел в комнату отец, как сел на табурет, даже не сняв брезентовой куртки.
— Открываю дверь, — начал Данил Матвеевич вкрадчивым голосом, — и жду: расцелует меня Шурка. А нет! Не то, видно, настроение. Не прошла, что ли?
— Не-ет.
— И так бывает... Да и какой бы из тебя инженер вышел? Жизни не видела. Кроме ложки, в руках ничего не держала.
— А другие-то как?
— Да и с другими проку мало. Пришли к нам летом два выпускника строительного института — грамотные ребята, плохого ничего не скажешь, а вот практическая работа на обе ноги хромает. Неказистый я бригадир, а на практике не уступаю молодым инженерам. Ты вот хотела на факультет горного дела поступить. А знаешь ли, что такое горный инженеров каких условиях ему приходится работать? Ничего ты, Шурка, не знаешь. Значит, не по душе был выбор, а поступала потому, что учиться в вузе модно.
— Для кого мода, а для меня призвание.
— Слова добрые, а на деле не то.
— Папа! Какой же ты, не знаю. Ну, не сдала. Ну, не прошла. Сдам на будущий год.
— А до того баклуши бить станешь?
— Не знаю...
— Шла бы работать: в труде и человек заметней, да и сам он многое замечает, многому учится. Поработаешь, посмотришь, по душе ремесло в руки возьмешь, а там и учись себе на здоровье.
— Не возьмут меня работать. Ничего я не умею делать.