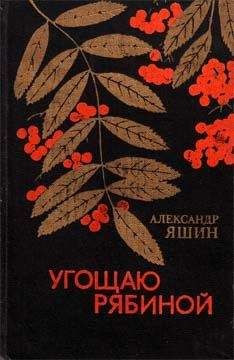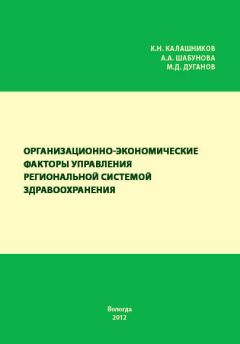Игнат Александрович иронически посмотрел на своего друга.
— Действительно, сияешь, словно тебя на Государственную премию представили.
Перемены, происшедшие с Юрием Семеновичем за короткое время, и впрямь бросались в глаза. Раньше он был худой, долговязый, с желтоватым лицом, с чуть прищуренными, правда, всевидящими и всепонимающими глазами и отличался необыкновенной нервной подвижностью. Сейчас раздобрел, уже не казался высоким, по комнате ходил неторопливо, солидно и глаза его стали спокойными, сытыми. «Видишь, какой я!» — казалось, кричало все его дородное тело.
— Ты знаешь, что значит победить себя? Я победил себя и горжусь этим! — всерьез заявил он. — Как известно, это самая великая победа, какую может одержать человек!
Игнат Александрович иронизировал недолго, настолько искренне и велико было его собственное желание бросить курить.
Первые три капсулы никобревина он проглотил тут же, в присутствии Юрия Семеновича. При этом Ольга Сергеевна смотрела ему в рот, а когда он, словно причащаясь, пил воду, раздалось журчание и в ее горле.
Весь вечер Игнат Александрович не курил. Более того, ему не хотелось курить. Правда, вечером он не садился за письменный стол, но это потому, что было уже поздно.
Ночь тоже прошла спокойно: курить по ночам он вообще не имел обыкновения.
Утром Игнат Александрович принял согласно инструкции три таблетки никобревина и пришел на кухню завтракать вместе со всеми. Ольга Сергеевна и Наташа поглядывали на него украдкой, они почти дышать перестали, но делали вид, что ничего особенного в их семье не происходит. Миша вовсе не поднимал глаз: предупрежденный матерью, он боялся отца и ждал, что с минуты на минуту разразится гром.
Но завтрак закончился спокойно.
После завтрака Игнат Александрович прошел в кабинет и сел за стол. Курить ему не хотелось, хотя сигареты со стола он не убрал.
Наташа, торопясь в институт, крикнула ему через дверь:
— До свиданья, отец!
Миша прошмыгнул коридором бесшумно и молча.
Игнат Александрович сидел за столом и удивлялся, что ему совсем не хочется курить и что никакого усилия воли от него вовсе не требовалось.
Так прошел день. Прошло два дня. Три. С каждым новым приемом никобревина нарастало ощущение, что он обкурился, обкурился так, словно только что сжег подряд целую пачку сигарет. Ему даже смотреть на них не хотелось.
По вечерам, возвращаясь с занятий, Наташа шепотом спрашивала мать:
— Не курит?
— Не курит! — так же шепотом отвечала мать.
— Сидит?
— Опять весь день сидел.
Семья ликовала: батько перестал курить! И не заметно, чтобы нервничал, страдал. Сидит по целому дню за столом, значит, работает.
Ежедневно звонил Юрий Семенович, он спрашивал коротко:
— Курит?
— Не курит! — отвечали ему, захлебываясь от восторга, то Ольга Сергеевна, то Наташа. Так отвечают на звонки врача о состоянии больного, приговоренного к смерти, но неожиданно начавшего поправляться: «Ему лучше! Он выздоравливает! Он уже ходит!»
Дыму в квартире не было, хотя запах табака еще не выветрился. Табаком пахло от книг, от одежды, от постелей, от ковров, даже от стен, — пахло кисло, прогоркло, вонюче. Но стоило открыть форточку, и этот смрад надолго улетучивался. Казалось, еще немного — и он исчезнет совсем, навсегда. Все было удивительно!
Но самое, пожалуй, удивительное, что Игнат Александрович ни слова не сказал сыну о своем горестном открытии. Ни упрека, ни намека — ничего. И Миша, трепетавший вначале при каждой встрече с ним, постепенно перестал робеть, перестал ходить по квартире на цыпочках.
Больше всех ликовал, кажется, сам Игнат Александрович. В самодовольстве своем он даже стал немного походить на Юрия Семеновича.
Незадолго до праздника, получив стипендию, Наташа принесла отцу эспандер в четыре толстых прорезиненных шнура. Игнат Александрович тут же проделал несколько упражнений, растягивая резину во весь размах рук — прямо перед собой, за спиной и над головой.
— К батьке возвращается молодость! — сказала Ольга Сергеевна.
А Наташа достала еще из портфеля тяжелый продолговатый сверток и торжественно вручила его отцу:
— Это тебе к празднику, папа. Мое поздравление с твоей победой. Заграница!
— Что ты говоришь о моей победе? Хочешь, чтобы и у меня глаза стали маленькими, чтобы и я раздобрел? — засмеялся Игнат Александрович.
Кинув эспандер на спинку стула поверх Наташиного пальто, он принял сверток и стал взвешивать его на руке:
— Что это такое?
— Разверни — оценишь. Мне сегодня подарил однокурсник.
Наташа не хотела говорить, что и этот подарок она купила в магазине по дороге из института.
— Зачем же даришь подаренное?
— Подарить всегда приятнее, чем самой… — она не договорила.
— Это верно, дарить приятно…
В свертке оказалась бутылка в совершенно невиданной, удивительной упаковке.
— Это же вино! — вскрикнул от неожиданности Игнат Александрович. — Что ты со мной делаешь, дочка?
— К празднику, папа.
— Но где вино — там и папиросы! — в голосе его был неподдельный испуг.
— Я верю в тебя, папа!
Игнат Александрович прошел с подарком в свою комнату и водрузил его на середину письменного стола. Все сгрудились вокруг него. В кабинете было светло, не то что в коридоре, Наташин подарок выглядел здесь не простой бутылкой вина, а диковинкой, и ее начали рассматривать внимательно и неторопливо, как рассматривали бы произведение искусства.
Было что рассматривать! Черная, крупная, благородной формы бутылка в цветной рогожке с фигурными золотистыми наклейками, что тебе красавица в юбочке с воланами и оборками, заключена была в решетчатый деревянный футляр, сколоченный из тонких, хорошо оструганных планок, не то платановых, не то кипарисовых. Планки эти, богатые и красивые сами по себе, были еще покрыты тиснеными надписями на испанском и английском языках и бордовыми, тоже тиснеными изображениями бокалов, — конечно, хрустальных, на тонких, изящных ножках. Шейку бутылки облегала особая мелкого плетения дерюжка, вроде кофточки, отделенная от основной одежки, от юбочки, нешироким просветом.
Сверху и снизу, с четырех сторон на деревянной решетке вытиснуты были надписи на английском языке: «Open here» — открывать здесь. Внизу на поперечных планках на испанском: «Hecho en Cuba» — сделано в Кубе. Посредине вертикальных планок, так же с четырех сторон, опять на английском: «Fragile» — хрупкое, бьющееся, и «For-export» — на экспорт. А на самой бутылке, на главной ее многоцветной этикетке, наклеенной на рогожку, стояло название вина: «Cordial de Cafe», «Coffe» — ликер «Кофейный», и крепость его — grado, и емкость в кубиках — Cont 750 сс.
Нет, не узницей в деревянной клетке выглядела эта заморская красавица, а царевной в расписном терему. И все — настоящая экзотика, во всем — дыхание экваториальных морей.
Игнат Александрович и Ольга Сергеевна мало что понимали в иностранных языках, они только с восхищением разглядывали любовную работу мастеров: «Как отполировано! Как чисто пригнано!» Зато Наташа и Миша принялись сообща разбирать и переводить испанские и английские слова — правда, основываясь тоже больше на догадках, на интуиции.
— Elaborado у envasado por — Элаборадо и энвасадо пор… — читали они наперебой. — Эмп. комс. де ликорес и винос… Это, по-видимому, означает, где изготовлено, разлито и упаковано, каким ликеро-винным заводом.
— Фирмой, фирмой! — закричала Наташа.
— А это адрес: «Унидад Н — 003 Басаррате 102 Хабана».
— Не понимаю, что такое «Хабана»? — спросил Миша.
— Гавана же!
— А вот написано: «Марка регистрада». Регистрация, значит. А что это за рисунок?
— Заводская марка, вот что. Не регистрация, а патент. Продукт запатентован… Понимаешь?
— «Дис сайд ап» — верх. Правильно?
— Кажется, правильно. А вот внизу: «Оупен хиа» — открывать здесь, и вверху: «Оупен хиа». Значит, открывать можно и снизу и сверху. Откроем?
— Подожди, дочка! — вмешался в разговор Игнат Александрович. — Жалко как-то… Нельзя сразу…
Ольга Сергеевна поддержала его.
— Откроешь, — сказала она, — и вдруг окажется, что в бутылке не вино, а дух, джинн… Улетит еще!..
Кроме надписей на бутылке и на решетке футляра к подарку подвешена была еще бирка, тоже красочная, на которой с одной стороны было напечатано: «Cafe (coffe)», с другой — «Rush to» и «Address». Значит, следовало написать: кому направляется подарок и по какому адресу.
Наташа взялась за отцовскую ручку.
— Я сейчас впишу: «Москва, папе, за его великую победу над самим собой…»
Всем стало очень весело.
К тому же и низкое осеннее солнце вдруг, откуда ни возьмись, засияло над куполами Кремля, прямо против окон кабинета, и оттуда повеяло другой экзотикой, другой красотой, уже своей, родимой, русской, очень древней и очень новой, которую порой перестаешь замечать и чувствовать, если стоишь к ней слишком близко, а она нет-нет да и даст о себе знать в минуты большой радости и душевного просветления.