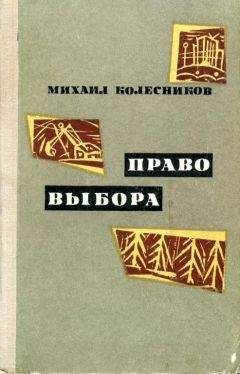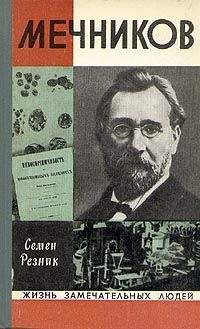А вчера Марина сама позвонила мне.
— Я развелась… — сказала она без всяких предисловий. Голос звучал глухо.
— А как же Марина-маленькая? — неизвестно почему спросил я.
— Если можно, мы завтра приедем к вам…
И вот вчера целый день я находился в радостном возбуждении. У Марины трагедия, а мне даже хвоя умирающих елей казалась лазоревой. Будто сбросил тяжелый груз. Таким молодым давно себя не чувствовал. Да и так ли уж я стар? Тогда разница в возрасте между нами была велика, а теперь она стала как бы намного меньше. Так всегда бывает с годами. И разве отец Марины, известный академик Феофанов, не женился в пятьдесят три года на девушке, которая годилась ему в дочери, и разве от того их жизнь не была счастливой? Они оба были заняты большой научной работой, и каждый день их был наполнен большим содержанием. Марине уже тридцать, а мне всего-навсего сорок пять!
Она возвращается ко мне!.. Она не могла не вернуться. Меня всегда преследовало смутное ощущение: рано или поздно она должна вернуться. Такова логика всего. Она совсем другой породы, чем ее белокурый красавец. Что он мог дать ей? Можно сидеть на диване, уставившись друг на друга, месяц, два, в лучшем случае — год. А потом? Они должны в конце концов заговорить. О чем? О бытовых мелочах? Или о том, что такой-то хорош, а такой-то плох? О чем говорят муж и жена, сойдясь после работы?
Всю ночь я не мог заснуть. Сидел в нижнем белье за столом и курил трубку.
Потом пришел Эпикур.
У него было сухое, узкое лицо. Он поглаживал кудлатую бороду, щурил темно-голубые глаза под властными дугами бровей.
— Тебе семьдесят лет, и ты не женат, — сказал я. — Ты так и не выбрал времени обзавестись семьей.
— Когда усиливаются жены — государства гибнут, — отозвался он железным голосом. — Мудрец должен стремиться к атараксии — невозмутимости и безмятежности духа. А разве с женщинами это возможно? Счастье заключается в удовольствии, удовольствие — в отсутствии страдания. Любовь — страдание…
— Ты лжешь! А Дарвин, Фарадей, Лобачевский?.. Они были счастливы в семейной жизни.
Он хихикнул.
— Ну это кому как повезет. — И поднял два разведенных пальца над головой. — Атараксия, катараксия…
Я вышел на целый час раньше условленного срока. В самом ожидании есть нечто приятно волнующее. Стоять и ждать, а потом, завидев ее издали, направиться навстречу.
Но на этот раз меня опередили: в конце аллеи на скамейке сидит Марина. Девочка лет четырех сгребает ногами опавшие листья. Приподнимаю край шляпы. Марина вскакивает, странно морщится, закрывает лицо руками и ревет в голос.
— Глупый эпиорнис, не надо реветь…
— Ты маму не ругай, — говорит Марина-маленькая и сжимает кулачки. А Марина-большая твердит:
— Я виновата перед вами…
Все же она быстро справляется с минутной слабостью, и мы начинаем говорить будничным языком.
— Вы сами понимаете, что оставаться там после всего случившегося я не могу. Видеть его каждый день — выше моих сил…
Она очень изменилась. Все тот же чуть вздернутый нос, все те же несмываемые веснушки, ленивая желтая коса, свернутая на затылке. Но в глазах нет больше холодного лукавства, и рот стал как-то суше, строже. Будто то же лицо, но выражение совсем другое. Понимаю: стала старше, заботы наложили свой отпечаток. Появилось еще что-то, приобретенное житейским опытом: некая элегантность во всей фигуре, в одежде. Марина должна была каждый день нравиться своему красивому мужу, и это заставляло изощряться, следить за собой, примеривать выражение лица, делать жесты нежными, изысканными. И даже сейчас подсознательно каждое ее движение изящно, хотя ей не стоило бы передо мной изощряться. Я всегда любил ее такой, какая она есть. Она могла бы даже не объяснять, зачем приехала. Научные занятия развивают интуицию, и я наперед знал, о чем будет разговор.
— Хорошо. С работой устроим. В конструкторское бюро при нашей радиохимической лаборатории требуется инженер. Я уже узнавал. Позвонил твоему начальству. Задерживать не станут.
— Я согласна на все… Любую работу… Я не хочу от него ничего, никаких денег, никаких вещей… Вот все тут при нас, в чемодане… Вот только с жильем…
Она замялась, потом, что-то переломив в себе, сказала:
— Если это можно… мы могли бы хотя бы временно остаться у вас. Мы можем остаться хоть сегодня. Я не хочу больше туда возвращаться. Может быть, это малодушие, но я не могу…
— Да, да. Анна Тимофеевна все знает, приготовила вам комнату. Ты могла бы приехать прямо, а не мерзнуть здесь. Стеснять не буду. Опасаться глупых толков тебе не придется…
Она смотрит с укоризной:
— Мне все равно. Понимаете? Все равно. В конце концов, кому какое дело до меня? Ведь я ваш эпиорнис — и ничего больше. Помните, вы однажды сказали, что воспитание — это постепенное освобождение от глупости? Я, кажется, начинаю продвигаться в этом направлении.
Бочаров стоит у окна, нагнув взлохмаченную голову и заложив руки за спину. Излюбленная поза. Черная рубашка без галстука. Брючки — будто натянул на ноги самоварные трубы. Во взгляде отрешенность. Резкий профиль очерчен солнечными лучами. Бочаров — начинающий гений и ведет себя соответственно.
Ах, осень…
— Опустились на землю космические регулирующие стержни… — глубокомысленно произносит Бочаров. — Зайцы-беляки боятся листопада. В наших местах они в такое время прячутся на полянах и под елками. Тут их и хватай…
Ну конечно же: Земля — большой реактор. Погружаются стержни в активную зону — мощность падает: осень, зима… Мы кипим, суетимся в своей активной зоне. Бедное человечество…
Бочаров — специалист по технике регулирования. Крепкий, жилистый парень, презирающий весь мир за то, что он плохо отрегулирован. Сам Бочаров отрегулирован добротно: четкость мышления впору электронной машине. Разумеется, логика на первом месте. Логика, порядок. Увидит забытый кем-нибудь листок, скатает в шарик, выбросит в корзину. Автоматический педантизм.
— В голове, наверное, тоже есть свои регулирующие стержни, — отзывается Олег Ардашин. — Когда мозг работает в надкритическом режиме, разгоняется до предела — получаются гениальные открытия; когда же стержни опущены…
Ардашин — физик-теоретик из «вундеркиндов».
— Вот, вот! — зло подхватывает всегда сумрачный Вишняков, рационализатор и специалист по жидкометаллическим теплоносителям. — Они у нас всегда опущены. Скопище тугодумов, параноиков. Запомните: злодея можно исправить, тупицу — никогда! К черту! Алексей Антонович, отпустите меня обратно на завод, в лабораторию. Ну какой из меня мыслитель? Я рожден для жидкометаллических теплоносителей. Какой только дурак порекомендовал меня в «думающую группу»?
— Вас рекомендовал член-корреспондент Академии наук Подымахов, — строго говорю я.
Вишняков сразу же прикусывает язык.
Столы Ардашина и Вишнякова завалены исчерканными листами. Тут все: формулы, загадочные кривые, схемы сравнения, аккуратно вырисованные женские головки в кудряшках, козлиные морды, имеющие неуловимое сходство с моей физиономией. Под стеклом — искусно выполненная карикатура с выразительной надписью: «Ползучие эмпирики» — Бочаров, Вишняков, Ардашин. Все трое на ослах. Под васнецовских «Трех богатырей». Удивительно метко схвачены черты характера каждого. Когда я думаю о своих помощниках, всегда вспоминаю эту карикатуру: Бочаров с выпученными глазами фанатика, отвисшей нижней губой, крутолобый, тонкий как жердь; Вишняков — великан с раздутыми щеками, с раздутым брюхом, лысый и вообще чем-то напоминающий королевского пингвина; искривленный иронией рот, сощуренные глазки; Ардашин — этакий попрыгунчик, головастик, миниатюрный, беленький.
Но это лишь злая карикатура, произведение неизвестного мастера или мастерицы из радиохимической лаборатории. В жизни все трое — очень симпатичные парни. Бочаров не так уж худ, Вишняков не так уж толст, Ардашин не так уж мал ростом. Глаза у Бочарова красивые, лицо одухотворенное. У Вишнякова хорошо посаженная мудрая голова — хоть на барельеф! Ардашин — потомственный интеллигент, и все в нем от потомственного интеллигента: белизна рубашки, изящество галстука, узкие плечи, сухие длинные пальцы, скупые жесты, невинность голубеньких глаз, культурность, идущая от умения пользоваться салфеткой, ножом и вилкой. Он именно культурненький. Он всегда сам по себе, осознавший свою исключительность индивидуалист. Но мне нравятся его молодое томление, его некая «зыбкость», внутреннее беспокойство. Бочаров и Вишняков для меня несколько тяжеловаты: они себе на уме, как-то рано устоявшиеся. Быть наставником таких почти невозможно.
У Бочарова на столе ничего лишнего. Впрочем, сегодня появился «инородный» листок. На нем твердым почерком Бочарова: