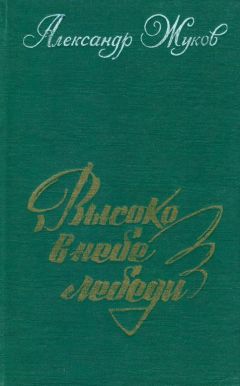«Ты как бы сливаешься с ним. Стоит чуть повернуть голову вправо, и ты летишь вправо; поднимешь голову, и он, вернее, ты набираешь высоту…» — я был заворожен рассказом нового знакомца, уже в полной мере, видимо, познавшего ни с чем не сравнимую, не поддающуюся описанию радость свободного парения.
Парень подсказал мне, где найти чертежи, и уже через пару дней я вечером объявил жене, что буду из нашего скромного бюджета откладывать каждый месяц по три рубля на постройку дельтаплана; жена, привыкшая к моим странностям, съязвила, что «дельтаплан, конечно, дешевле, чем самолет», и ушла в свою комнату, а я всю ночь просидел над чертежами; вскоре у меня была готова полная деталировка, я пошел в мастерские и заказал знакомому токарю два фланца из легкого титана, а сам подыскал дюралевую трубу, разметил ее и отпилил нужный кусок; после работы я принес его домой; когда жена и дети улеглись, уединился на кухне, крепко взялся за трубу обеими руками и, понимая, что это — ребячество, закрыл глаза, но увидел только мельтешившие в темноте белые точки — верный признак нервного переутомления, как я уже знал от врачей; зато ночью, во сне, я собрал свой дельтаплан и с балкона смело ринулся вниз и полетел над плоскими крышами высотных домов, над лесом, сверху похожим на спутанное ветром поле незрелой пшеницы; наконец, увидел провалившуюся возле самого конька крышу маминого дома и обрадовался тому, что его еще не разобрали на дрова; с той ночи, стоило мне закрыть глаза, как я мог часами парить над полями и лесами, но заканчивался полет почему-то всегда возле знакомого, полуразвалившегося дома, в его тихом дворе, в лопухах которого, положив на плечи голубые погоны, я впервые ощутил себя крылатым.
1985
Олег сидел на верхней ступеньке крыльца, кособокого, вросшего в землю; в березовой роще кричали грачи, и серый туман сумерек, казалось, был прошит, простеган острыми иглами криков, стал плотным, придавил запотевшие крыши деревенских изб, укутал голые, наверное, продрогшие за ветреный день кусты смородины и крыжовника в огородах и мягко, масляно потерся о сухие еще, испускавшие желтый лучистый свет окна.
Олег поплотнее запахнул широкие полы ветхой шинели, терпко пахнущей молодым, неслежавшимся сеном; она висела в сарае в окружении решет, цепов, граблей, чистая, аккуратно заштопанная на локтях, словно несколько минут назад оставленная тут хозяином. И когда Олег попросил ее у хозяйки, Марьи Федоровны, то она, юркая, словоохотливая, недоверчиво заглянула ему в лицо белесыми, словно бы застиранными глазами и, как ему уже потом, день, наверное, спустя, подумалось, прочла по нему то, о чем он лишь догадывался, да и то смутно, и раздумчиво сказала: «Возьми, милай, раз охота такая, возьми».
От этого скрипучего «возьми», похожего на скрип дверей и половиц и мягкого, протяжного «милай» пахнуло чем-то стародавним, знакомым, хранящимся, наверное, на тех самых высоких полочках памяти, до которых мы, к сожалению, редко дотягиваемся сами, чаще берем то, что лежит под рукой. «Наверное, моя бабушка так говорила», — подумал Олег, хотя не помнил ее, но из рассказов матери знал, что бабушка, больная, распухшая от военного голода, сажала его на колени и разговаривала с ним подолгу, как со взрослым, чем пугала соседей, живших за тонкой дощатой переборкой; им казалось, что бабушка от голода «тронулась».
Олегу захотелось войти в избу, зажечь керосиновую лампу с пожелтевшим, вырезанным из обоев абажуром, присесть к дощатому столу напротив Марьи Федоровны и, по-купечески потягивая из блюдца чуть горчащий мятный чай, завести с ней неспешную беседу.
«О чем же ты будешь говорить?.. — иронично усмехнулся Олег и колючим, небритым подбородком потерся о свалявшийся, когда-то жесткий воротник шинели. — Хочешь, чтобы тебя пожалели, обласкали?..»
— Гриша… Пора домой, Гриша.
Олег поежился от кольнувшей, неприятной догадки; услышал слева шаркающие шаги и неглубокое прерывистое дыхание.
— Прости, очень ты в сумерках на него похож. — Марья Федоровна плечом прислонилась к перилам крыльца, и они, очнувшись от вечерней дремоты, отозвались обиженным скрипом. — Гриша-то, как после ранения приехал, все на ступеньках до самого поздна сидел, словно ждал кого. Я зову его, зову, а он не шелохнется. Пуля-то ему в голову попала… да, в голову. Сидит, бывало, а уж морозы пошли, а он шапку не надевает. Рядышком она, на ступеньке лежит. Все жаловался на жар в голове. Стриг ее наголо и ледяной водой прямо из бочки обливал. А я из окошка гляжу на него и плачу, плачу…
Марья Федоровна вздохнула глубоко, словно перевела дыхание после тяжелой ноши, и уже буднично, как о чем-то постороннем, добавила:
— Нынче редко плачу. Горе-то у меня уже взрослое.
Олег всем своим естеством ощутил, в какие-то доли мгновения понял, может быть, впервые в жизни: какую великую душевную силу надо иметь, чтобы день за днем, долгие годы жить бок о бок со своим горем, греть его теплом исстрадавшегося, измученного сердца, чтобы оно, черное, стало чистым и высоким, как слеза; для Марьи Федоровны навсегда и воздух, и лес, и дом, и все те маленькие радости, если они еще случаются в ее жизни, освещены его печальным светом, и осколки этого большого общего горя каждый носит в своей душе; — у него, у Олега, нет отца, у других — брата или деда; наверное, особые волны, еще не изученные наукой, разносят по всему миру и, кто знает, может, по всей Вселенной робкие, похожие на едва проклюнувшийся зеленый листок, или будоражащие, набатные сигналы наших радостей и тревог.
Со стороны дороги послышался смех, мужские возбужденные голоса.
— Олег, пошли на скачки!
«Катитесь вы!..» — Олег сердито посмотрел на черный забор, в щелях которого, словно красные светлячки, мелькали огоньки сигарет, и поспешно, опасаясь как бы его приятели по заводу не ввалились сюда, подвыпившие, бесшабашные, отозвался:
— Не пойду. Отосплюсь лучше!
— Дома, под боком у жены отоспишься… Таких на картошку брать не надо! — весело закричали с дороги, и красные светлячки побежали по забору и растаяли в темноте.
— Ишь, разгулялись, — мысленно находясь еще там, в далеком, уже для самой в чем-то похожем на чужую жизнь времени, растерянно заметила Марья Федоровна. — Может, судьба такая выпала. Марья, испокон веков, горькая. Только чем я так перед людьми и перед этим светом провинилась?.. Всю жизнь работала, как нынче говорят, «ишачила за спасибо». Вы такие выросли, что шагу бесплатно не ступите. Жизнь как-то чудно понимаете: «ишачим», чтобы отдыхать, словно самая взаправдашняя жизнь начинается после работы…
Легкий ветерок донес с танцплощадки обрывок ритмичной музыки; возвращаясь с картофельного поля, Олег видел этот асфальтовый пятачок возле клуба, усеянный окурками, фантиками, шелухой от семечек, словно стыдливо укрывавшийся от дневного света плотным покрывалом из мусора.
— Не слушаешь меня, милай?
— Да вот задумался, — смутился Олег.
— Я уже привычная, что одни меня из жалости слушают, другие из воспитания — это все больше городские, а наши-то, деревенские, отмахиваются, как от навозной мухи: «Своих забот полон рот». Я, если уж большая охота подопрет, кошке все рассказываю. Она глазищами хлопает, хлопает, да как замурлычет и ну! об ноги тереться. Значит, понимает. А по весне и кошки не стало. Ребята из рогатки стрельнули… Слушай, третий день на тебя гляжу, вроде, как ты не в себе. По дому так тоскуешь?
— Да нет…
— Отца вспомнил?
— Его я лишь на фотографии видел. Он до Берлина дошел. Дежурил у танков, а снайпер из высотного дома… Как раз был первый день мира.
— Кто ж, милай, за все это ответит?..
— Сказки, Марья Федоровна, сказки, — уже порядком разочаровавшийся в формуле: каждому воздастся за добро и за грехи его, раздраженно обронил Олег; люди с детской верой в мифические законы, по которым должна протекать человеческая жизнь, вызывали у него и сочувствие, и отвращение. — Знаете, я у одного ученого недавно прочитал, что, по его наблюдениям, больше всего на операциях не везет именно хорошим людям.
— Оно и верно, зверь завсегда живучее человека.
— Циничный закон природы.
— Ты не смейся. Раз ты умный, то должен знать, как надо жить, чтобы не болеть.
В темноте Олег не видел лица Марьи Федоровны, но почувствовал, как оно, округлое, похожее на передержанную в печи, потрескавшуюся булку, осветилось лукавой улыбкой.
— Тебе в шинели-то, поди, тепло, а у меня до самых костей холод добрался. Пойду в избу, самоварчик соображу.
За спиной Олега скрипнула дверь; он поднял повыше ворот шинели, привалился плечом к бревенчатой стене и прикрыл глаза; еще тогда, в детстве, он до слез завидовал одногодкам, щеголявшим в отцовских, подрезанных почти до самой талии шинелях, до белизны застиранных гимнастерках, выгоревших пилотках; он погладил выпуклые, со звездочками, пуговицы; на них играли за черной от копоти котельной в «орлянку»; их он встречал позже в столах своих повзрослевших приятелей, как и пилотки, и погоны, бережно хранившиеся в шкафах, и невольно подумал о том, что будет беречь его сын как память о нем?.. Вспомнились недавние слова жены: «Тебе не кажется, что мы живем слишком скучно: работа — магазин — варешка — кормежка — телевизор — постель». Сказано это было как упрек, и Олег, защищаясь, огрызнулся: «Не я же это придумал!» Хотя сам все чаще и чаще ловил себя на мысли, что если с ним не произойдет несчастного случая, если не будет землетрясения или иной катастрофы, то он без особых перемен проживет до самой старости; в последние годы время отмечалось больше покупками, приобретениями: «это было, когда мы цветной телевизор купили», «это было той весной, когда мы взяли в кредит гарнитур для спальной; у магазина тогда очередища с пяти утра была…» И Олегу после каждой самой маленькой размолвки с женой, которая упрекала его, и он это понимал, тоже больше по привычке, хотелось побыть одному; одиночество не пугало, а манило, словно хотело посвятить в какие-то сокровенные тайны человеческой жизни; и по дороге в «колхоз», на который согласился добровольно, чем крайне удивил жену и начальство, он надеялся, что общежитие в эту пору пустует и можно будет найти укромный уголок, чтобы уединиться.